Тексты и памятники (препринт, «Сноб»)
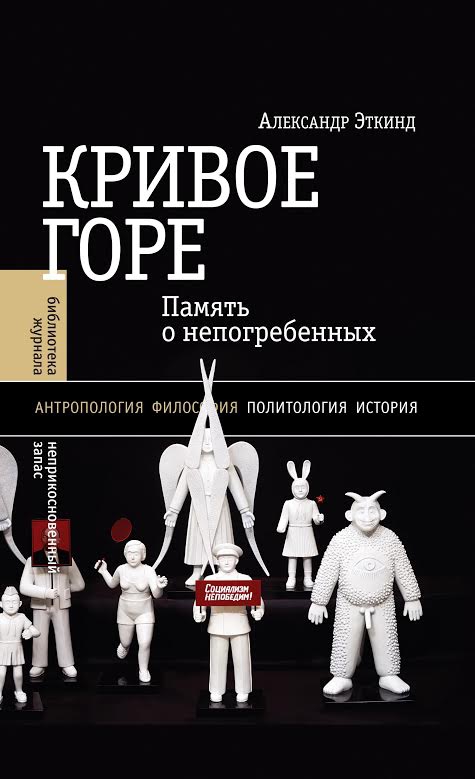 Российско-американский филолог Роман Якобсон отметил, что в нескольких известных текстах Пушкина («Медном всаднике», «Каменном госте» и т.д.) статуя оживает и противостоит человеку, который вследствие этого теряет память, разум или жизнь. Еще один российско-американский ученый, Михаил Ямпольский, недавно высказал противоположную идею. По его мнению, памятник создает вокруг себя «таинственную защитную зону», священное пространство, где останавливается поток времени. Оба они правы: именно потому, что памятники замораживают историю, те редкие моменты, когда они приходят в движение, создают то смешение живого и мертвого, которое переживается как жуткое.
Российско-американский филолог Роман Якобсон отметил, что в нескольких известных текстах Пушкина («Медном всаднике», «Каменном госте» и т.д.) статуя оживает и противостоит человеку, который вследствие этого теряет память, разум или жизнь. Еще один российско-американский ученый, Михаил Ямпольский, недавно высказал противоположную идею. По его мнению, памятник создает вокруг себя «таинственную защитную зону», священное пространство, где останавливается поток времени. Оба они правы: именно потому, что памятники замораживают историю, те редкие моменты, когда они приходят в движение, создают то смешение живого и мертвого, которое переживается как жуткое.
Трансформации памятников — тоже события памяти, и они неизбежно влекут за собой продуктивное взаимодействие меняющихся памятников с текстами. На происходящие с памятниками события — снос, переименование, перемещение, акты вандализма, разрушение, реконструкция — общество реагирует так, как будто это политические действия, произошедшие с людьми. Когда в текстах Пушкина оживают памятники, они создают эффект жуткого; когда в пространство монумента проникают тексты, они способны оживить мертвую материю. Именно сочетания камня и текста заставляют памятник работать; без слов нельзя понять значение камней. К примеру, в основании Соловецкого камня в Санкт-Петербурге написано: «Жертвам коммунизма». Но слово может стать и актом вандализма. Я помню, как в 2002 году вандалы красной масляной краской написали на этом Соловецком камне: «Слишком мало расстреляли».
Согласно Ямпольскому, памятник создает таинственную зону, где время прекращает свое течение, как будто замирает на фотографии. Преображается и пространство: выйдя из своего обычного, нейтрального, рассеянного состояния, оно фокусируется на монументе. Необходимо ли, однако, памятнику существовать в камне или бронзе? Или для такого же воздействия достаточно текста? Размышления о памятниках, состоящих из слов, но представляющих нечто иное, чем слова — постоянный мотив русской поэзии от Державина до Ахматовой. В 1836 году Пушкин «памятник себе воздвиг нерукотворный». В 1962-м Бродский ответил: «Я памятник воздвиг себе иной! К постыдному столетию — спиной». Утверждают, что это двустишие вдохновило автора памятника Бродскому в Москве на то, чтобы поставить поэта спиной к Кремлю. Это один из многих примеров взаимодействия между текстами и памятниками.
Скорбные нарративы, выполненные в разных жанрах — стихотворения, воспоминания, романы и даже научные сочинения — способны запечатлеть ужас прошлого, имитируя эффект окаменения текстуальными средствами. Этот эффект создается, когда поток нарратива неожиданно замирает, создавая статичный образ горя, который запоминается именно потому, что его замороженная, окаменевшая ткань контрастирует с потоком нарратива, обтекающего его подобно самому времени. Я приведу несколько примеров таких текстуальных памятников, после чего обращусь к «Реквиему» Анны Ахматовой, который рассказывает o механизме создания текстуального памятника.
В своих мемуарах Никита Хрущев вспоминает, как в решающий момент Сталинградской битвы он искал и не мог найти штаб одной из армий, участвовавшей в окружении врага. Ночь в прифронтовой полосе была темной, и Хрущев с сопровождавшими его людьми сбились с пути. При свете ракет они увидели три трупа — двух голых немецких солдат и серую лошадь. «Обнаженные трупы… ночью… хорошо видны», — пишет Хрущев. Со своей свитой он кружил вокруг трупов, натыкаясь на них снова и снова: «Куда бы мы ни поехали, всякий раз возвращались к тем же трупам. Просто заколдованное место какое-то! Без конца встречаем трупы двух голых солдат и серой лошади. Что за наваждение? Как по Гоголю! Нечистая сила водит нас вокруг этого места». Хрущев сказал тогда ехавшему с ним генералу, что такое «запомнится надолго». И действительно, диктуя мемуары двадцать с лишним лет спустя, Хрущев пять раз упомянул о трех мертвых телах. Запомнит их и читатель. Останавливая поток событий в воспоминаниях, уже прошедших мимо миллионов убитых, эта экспрессионистская сцена концентрирует в себе напряжение и тревогу одного из организаторов сталинградского триумфа. Статичная и повторяющаяся сцена воплощает инстинкт смерти, прячущийся в середине жизнеутверждающей победы.
В центре совсем иного текста стоит схожий, тоже ужасающий пример окаменевшего в тексте памятника: маски смеющейся смерти — «знаменитые керченские терракоты» — с улыбающимися фигурами беременных старух в книге Бахтина о карнавале. «Это — очень характерный и выразительный гротеск. Он амбивалентен; это — беременная смерть, рождающая смерть». Уже несколько поколений читают про эти вечно улыбающиеся, вечно беременные фигуры, не вполне понимая странный ужас бахтинского текста, написанного в окружении массового голода.
На одной из самых поразительных страниц в воспоминаниях Дмитрия Лихачева он описывает открытый грузовик-труповозку, которую можно было видеть на улицах Ленинграда в начале 1942 года: «Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины». Во множестве деталей, удержанных памятью или воссозданных воображением, Лихачев рассказывает об этих стоячих трупах, создав страшный и запоминающийся памятник.
Анна Ахматова начала подпольно распространять цикл стихотворений, названный «Реквием», в 1961 году; в СССР его опубликовали двадцать шесть лет спустя. Ахматова описывает тут, как она стояла в очередях у тюрьмы «Кресты» в 1938 году, пытаясь оставить передачу для сына — Льва Гумилева, которого держали в следственной тюрьме; потом он провел шесть лет в лагерях. В эпилоге к этому циклу Ахматова пишет, как стояла у тюрьмы «триста часов», а в прозаическом вступлении упоминает «семнадцать месяцев в тюремных очередях». Все, кто стояли в этих очередях, были в «свойственном нам всем оцепенении», пишет она. Улыбался тогда «только мертвый», узнаем мы из «Реквиема», и этот ахматовский троп — тот же самый и столь же гротескный, что у Бахтина. В стихах «Реквиема» очередь у ворот тюрьмы описана как окаменелая или замерзшая. Сама героиня переживает внутреннюю перемену из-за страха за сына и сострадания к нему, и эта перемена тоже связана с окаменением: «У меня сегодня много дела: // Надо память до конца убить, // Надо, чтоб душа окаменела…» Действительно, именно окаменение находится в центре этого цикла; в камень превращается то сын, то апостол Петр, то сама мать. В последнем стихотворении «Реквиема» Ахматова развивает тему камня дальше: она хочет, чтобы будущий памятник ей поставили около «Крестов», где она стояла в бесконечных очередях. В заключительных строках рассказчица уже стала памятником: «И пусть с неподвижных и бронзовых век // Как слезы, струится подтаявший снег…» Ахматова предсказала тут важные черты постсоветской памяти: «Хотелось бы всех поименно назвать, // Да отняли список, и негде узнать». От желания перечислить всех жертв она переходит к другому невозможному желанию — воздвигнуть памятник одной из них. «А если когда-нибудь в этой стране // Воздвигнуть задумают памятник мне», то он должен стоять там, «где стояла я триста часов…» Ахматова говорит об этом памятнике не метафорически (текст как памятник), а буквально, как о монументе. Она не описывает детали воображаемого памятника, а только указывает подходящее место для него. В этом одна из черт посткатастрофической памяти: ее монументы редко бывают конкретны, потому что любая конкретность сведет опыт катастрофы к человеческой повседневности. Сохраняя горькую память и отказываясь от невозможного осмысления, памятники обозначают лишь факт и место катастрофы.
Но памятник Анне Ахматовой у тюрьмы «Кресты» так и не был поставлен.
Мемориалы вины
Рассматривая знаменитые памятники Парижа, Вашингтона или Санкт-Петербурга, мы видим перед собой нации и империи, воплотившиеся в репрезентирующие их фигуры из камня или бронзы. В этих величественных монументах представлена непрерывная идентичность нации — желанное и часто мифическое единство между народом и государством. Это не мешает памятникам быть местами исторической памяти; и все же они — прежде всего видимые и осязаемые тела национализма, искажающие прошлое ради того, чтобы предопределить будущее.
Государства не любят возводить монументы, свидетельствующие об их вине. Многие преступления были совершены на территории бывших колоний, и теперь им принадлежит бремя памяти. Память о «сопутствующих потерях», к которым привел поиск национальной славы или имперской выгоды, сохраняется скорее в устных или письменных текстах, чем в монументах. Памятники участникам революций и гражданских войн прославляют победителей и игнорируют побежденных. Во времена самих революций монументы легко падают с пьедесталов, создавая события памяти, не только сопутствующие сменам режима, но и способствующие их осуществлению. Война в Ираке еще раз показала, что происходит с памятниками, если власть поставила их самой себе и оказалась неспособна защитить. Похожие акты насилия по отношению к памятникам занимали важное место в истории Американской, Французской и Российской революций. Потом новому государству приходится воздвигать монументы бывшим врагам и недавним жертвам. Делая это, государство признает собственную трансформацию и ее осуществляет. Время этих материализованных перформативов обычно приходит после военного поражения, деколонизации или революции. В России, десталинизация происходила частично и постепенно; такой же частичный характер имеет и мемориализация мест террора.
В типическом случае, и это международная практика, мемориалы на местах массовых пыток и казней состоят из двух принципиально разных частей, музея и монумента. Музей рассказывает историю террора и показывает материальные следы событий. Он создает связный нарратив и может быть подвергнут дискурсивному анализу и критике, подобно книге или лекции. В отличие от исторического музея, монумент не подлежит рациональному осмыслению. Он вызывает эмоциональную реакцию и этим похож на ритуал. Музеи воплощают в себе историческое знание; памятники — это произведения искусства, они не претендуют на достоверность. Экспонаты музея восстанавливают прошлое таким, как оно было; наоборот, памятник утверждает отличия настоящего от прошлого. В музейной части мемориала реконструкции бараков, тюремных или газовых камер отсылают посетителей к своим историческим прототипам, стремясь воспроизвести их максимально точно. Но идея реконструкции заканчивается там, где мы видим памятник, а виден он почти отовсюду. Действительно, в реальном лагере, когда он работал, мучил и уничтожал людей, не было обелисков, увековечивающих их память. Монументы на месте лагерей не воспроизводят историческую реальность, какой она была в прошлом, но выражают отношение к ней, существующее в настоящем и, надеемся мы, каким оно будет длиться в будущее. Типичный памятник — это башня, обелиск или другой высокий, видимый отовсюду, символ. Вертикальной формой и центральным положением, такой памятник похож на деревянный кол, которым прибиты к земле чудовища прошлого.
В России кол не вбит в землю, и вампиры готовы вновь восстать над могилами. Недостаток социального консенсуса не дает памяти кристаллизоваться в памятниках. Раствор остается перенасыщенным, но память в нем повторяет свои виртуальные круги. В Германии, к примеру, первые памятники жертвам нацистских лагерей появились на их территории сразу после освобождения. Начали этот процесс бывшие заключенные: выходя на свободу, они ставили первые примитивные знаки горя — деревянные обелиски, дощечки на могилах и т.д. Музей рассказывал посетителям о том, какими ужасными методами действовал режим, только что потерпевший поражение. Не менее важным было то, что превращение лагеря в музей доказывало, что новые власти не используют лагерь в прежней, страшной функции. В разных секторах оккупированной Германии процессы мемориализации шли по-разному. В восточном секторе лагерями управляли в соответствии с идеологическими поворотами в политике СССР и ГДР. В 1945—1951 годы советские войска и военная полиция содержали немецких военнопленных в десяти бывших нацистских концлагерях на территории будущей ГДР. Позже некоторые лагеря превратились в музеи, но из их истории, как она в них показана, был изъят тот период, когда лагерь продолжал работать под советским контролем.
