Интервью Александра Эткинда Сергею Простакову («Археология русской смерти»)
Александр Эткинд, британский и американский культуролог, историк культуры и литературовед. Кандидат психологических наук (1985), PhD (Хельсинки). Профессор русской литературы и истории культуры в Кембридже; профессор Нью-Йоркского и Джорджтаунского университетов. В настоящее время профессор Европейского университета во Флоренции.
— Расскажите о том, как вы пришли к идее, что «память о непогребенных» можно продуктивно исследовать, используя фрейдистский анализ горя, идеи Вальтера Беньямина о второй жизни религиозных символов в массовой культуре и русский формализм? Когда вам впервые пришла в голову метафора «кривого горя»?
— На такие вопросы труднее всего отвечать. Они требуют самоанализа, а это дело ненадежное. Первый написанный мной текст о памяти касался революционных автобиографий, и уже тогда я стал вводить такие понятия, как мягкая/твердая память. На какое-то время я сосредоточился на этой рабочей метафоре, написал несколько статей. Помню, что большое впечатление на меня произвело путешествие на Соловки и Беломорканал, я об этом рассказываю в книге. Передо мной всё время стоял вопрос: как анализировать памятники, как рассказывать о них? Ну и конечно, на эту книгу повлияли мои занятия современной русской литературой, всем тем, что я назвал магическим историзмом. Как вы знаете, историей психоанализа я занимаюсь очень давно, а фрейдовская идея работы горя и меланхолии центральна в этой истории; важна была она и для Беньямина, который оставил замечательные образцы исследований «горестной» культуры. Я обо всем об этом подробно рассказываю в книге. Что касается метафоры «кривого горя», то я придумал ее, когда сочинял название для английской версии книги. Ну и потом пришлось перевести ее на русский — тоже творческая задача.
Что касается русского формализма, то он мне интересен как историку, но я думаю, что этой традиции уделили достаточно внимания, и я отношусь к ней всё более критически. Например, меня занимают цензурные или самоцензурные искажения, которые Эйхенбаум допустил в гоголевской «Шинели», и поражает то, что этих искажений никто до меня не заметил. Как я пишу в связи с постановкой «Шинели» Козинцевым, «фильм 1926 года подменил публичное явление мстительного призрака, которого видел весь город, болезненными видениями чиновника на смертном одре. Были ли тому причиной технические проблемы или идеологические самоограничения, но галлюцинации умирающего чиновника у Козинцева оказались гораздо мельче, чем неукротимое воображение Гоголя. Немногим раньше такая же избирательная, идеологически мотивированная нейтрализация гоголевского сюжета была совершена в другом жанре. Друг Козинцева и Тынянова, литературовед Борис Эйхенбаум в своей знаменитой статье о гоголевской “Шинели” (1919) тоже не стал анализировать финальную сцену этой повести, как будто ее там не было. Систематическое искажение повести Гоголя в ее послереволюционных интерпретациях является важным и неисследованным феноменом. Долгожданная революция принесла возмездие, но до справедливости было далеко. Осуществление утопии разрушило сокровенные надежды “маленького человека”. Ключевая сцена гоголевской “Шинели” стала неприемлемой, и ее слишком внимательное чтение теперь рисковало обернуться пародией на саму революцию. О посмертном явлении Акакия Акакиевича предпочли забыть, отчего рассуждения о том, как сделаны остальные части “Шинели”, стали еще настойчивее».
— Как вы определяете десталинизацию? В «Кривом горе» вы пишите о третьей волне десталинизации, которую запустил Дмитрий Медведев в 2011 году. Сегодня те события эхом отдаются в распоряжении поставить в Москве первый официальный памятник жертвам репрессий. Почему эти события вы определяете как десталинизацию?
— Десталинизация есть самоочищение российского общества, государства, культуры от сталинского наследия. Работа памяти о жертвах сталинизма, воплощенная в текстах или памятниках, на деле осуществляет десталинизацию. Как ее еще ни определяй, десталинизация идет волнами: большая волна, маленькая — они всё равно волны. Увы, медведевская волна оказалась очень маленькой, после хрущевской и горбачевской волн ее можно и не заметить. Надо сказать, что когда я писал об этом, ничтожный ее масштаб не был так очевиден, как сегодня.
— Можно ли меры, предпринимаемые только государством, считать полноценной волной разоблачения культа личности и реабилитации репрессированных? Да, прежние две волны запускались государством, но протекали при активной работе общества. Сейчас же активные «десталинизаторы» снизу больше напоминают субкультуру или даже разрозненных религиозных подвижников, а не полноценную силу, способную обеспечить массовую работу памяти (пусть это далеко и не их вина).
— Да, я согласен. Однако смысл моей книги в том, что работа памяти и горя неофициальна и неформальна. Память не принадлежит государству. Память находится в людях, как сны или желания. Память воплощается в образах литературы, искусства, музыки и прочем, что люди понимают, а чиновники нет. Государственная власть, школы, цензура и прочие почтенные институты могут что-то запустить или чему-то препятствовать, но их доля в этом хозяйстве невелика. Энтузиасты памяти (так я их называю в «Кривом горе») всегда напоминают религиозных подвижников.
— Очевидно, что «четвертая волна десталинизации», о которой вы вскользь упоминаете, будет запущена уже внуками и правнуками «непогребенных». В какой, на ваш взгляд, форме она будет? Зачем она нужна новому поколению?
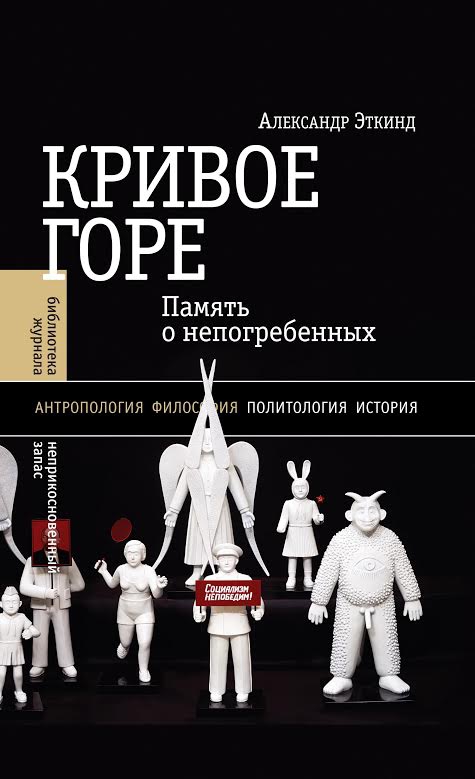 — Историка не стоит спрашивать о будущем. Хотя верно и обратное: кого ж еще спрашивать, как не историка? Надеюсь, в будущем разные формы памяти и горя, которые я описываю в книге, соединятся в каком-то синтезе, вроде как в большой симфонии. Как видите, я оптимист, хотя моя книга и мрачновата. О Французских революции и терроре всё время пишут, справляют юбилеи, спорят о том, закончилась она или нет. Так же или больше будут говорить и думать о Российских революции и терроре. В них очень многое было задумано, и столь же многое не осуществилось: желание равенства и братства, конец колониальной эры, самоопределение наций, конец мировой войны и того, что историки позже назвали гражданской войной в Европе — все утопии и все дистопии ужасного ХХ века.
— Историка не стоит спрашивать о будущем. Хотя верно и обратное: кого ж еще спрашивать, как не историка? Надеюсь, в будущем разные формы памяти и горя, которые я описываю в книге, соединятся в каком-то синтезе, вроде как в большой симфонии. Как видите, я оптимист, хотя моя книга и мрачновата. О Французских революции и терроре всё время пишут, справляют юбилеи, спорят о том, закончилась она или нет. Так же или больше будут говорить и думать о Российских революции и терроре. В них очень многое было задумано, и столь же многое не осуществилось: желание равенства и братства, конец колониальной эры, самоопределение наций, конец мировой войны и того, что историки позже назвали гражданской войной в Европе — все утопии и все дистопии ужасного ХХ века.
— Иногда исторические уроки забываются и память о них просто стирается за давностью лет. Так, видимо, в связи с 1917 годом и последующими событиями память о крепостничестве практически исчезла, прежних войн памяти (то есть борьбы социальных групп за распространение собственной интерпретации прошлого) вокруг этого события больше нет. С одной стороны, в 1917 году «окончательно» был решен вопрос о правых и виноватых, с другой, появились новые вызовы, которые просто сняли с повестки дня вопрос об интерпретации и памяти о крепостничестве. Не кажется ли вам, что вопрос о погребении невинно убиенных в СССР будет снят сам собой в ближайшие десятилетия?
— Тут я не согласен с вами. В советское время исследования крепостного крестьянства были передовой областью истории, у меня были случаи поговорить об этом и в «Кривом горе», и во «Внутренней колонизации». Всё происходит противоположным образом: новейшие формы угнетения вызывают память о прошлых его формах. У прошлого всегда найдется работа: одним оно важно само по себе, другим служит для критики настоящего, третьим — для представления будущего.
— В кругах современных российских левых довольно важно противопоставление «талантливого, непризнанного, красного» Шаламова «плохому, белому и перехваленному» Солженицыну. При этом мы видим, как сегодня государство использует Солженицына в своих целях. Уже сейчас запущен процесс подготовки к празднованию столетнего юбилея писателя. В «Кривом горе» вы пишете об интерпретациях лагерного опыта Солженицыным и Шаламовым. Какая из них вам ближе? Как вы оцениваете конфликт между писателями и различия их посмертной славы?
— Я ценю их обоих, хотя если б стал что перечитывать, то взялся бы за Шаламова. Не думаю, что один из них был белым, а другой красным: у обоих было время и поводы поменять цвет. Не надо, замечу в сторону, упрощать левую мысль. Я чем дальше живу и занимаюсь Россией, тем больше уважения к ней испытываю. Шаламов — трагическая фигура, и он в полной мере понимал это и искал пути выражения своего чувства трагедии. Этого, кстати, в современной России не хватает: чувства трагедии.
— В «Кривом горе» один из самых ярких отрывков, в котором вы пишете о том, что одной из жертв террора стала левая идея, а значит, и механизм коллективного преодоления утраты, который вы называете вслед за Фрейдом работой горя, распространяется на нее. Можно уточнить у вас насчет эволюции ваших взглядов на роль левой идеи в русской истории?
— Как историк русской мысли, я всегда интересовался левыми идеями, утопиями и верованиями, которые предшествовали русской революции и потом ее осмысляли. Мне особенно интересны идеологические сдвиги, например слева направо, как тот, что я проследил в моей последней книге, биографии Уильяма Буллита. В своей жизни я и сам осуществил такой сдвиг, только в противоположном направлении. В 1980-е годы, когда я был молодым и политически активным человеком, я верил в либеральные принципы как единственно верные и справедливые. Увы, с тех пор так много произошло, что эти мои убеждения сместились влево, и я больше верю в социальное государство и хорошо регулируемый капитализм. Мои исторические занятия натуральными ресурсами — вечной базой самых хищнических, самых непроизводительных форм экономики — дают этому горькому опыту историческое подтверждение. А о том, что постреволюционная русская мысль находится в парадоксальном состоянии двойного горя — скорби по жертвам левых идей и по самим этим идеям как жертвам, — читайте в моей книге.
— В книге сказано: «Взаимодействие монументов и текстов создает ядро культурной памяти, и формы этого исторического взаимодействия меняются». Насколько в это взаимодействие включены российские кладбища? Встречались ли вам примеры работы «памяти о непогребенных», непосредственно связанные с пространством российских кладбищ?
— Сейчас такую работу ведет мой коллега в Берлине Михаил Габович. Он занимается военными кладбищами, поговорите с ним. Помню и работу о мемориалах ветеранам афганской и прочих войн, которые исследует выпускница Европейского университета, сейчас работающая в Англии, Наталья Данилова. Есть и другие интересные работы.
— Донское кладбище в Москве, как нам кажется, — один из ярких примеров работы памяти об опыте советской истории. Здесь в 1918 году по указу Ленина был открыт первый в России крематорий, который служил местом сожжения трупов —как жертв террора, так и умерших в госпиталях солдат. При этом место, куда ссыпáли солдатский прах, является официальным государственным монументом, на котором выбито свыше 10 тысяч имен. По яме для невостребованного праха, куда скидывали останки репрессированных, еще в советское время проложили кладбищенскую тропу. И только во времена перестройки там силами родственников репрессированных началась спонтанная мемориализация, выраженная в установке кенотафов в память о родных. Никакие волны десталинизации не пошатнули память о войне. Возможен ли в принцпе пересмотр памяти о войне? Насколько он связан с десталинизацией?
— Не стоит связывать со Сталиным и, соответственно, с десталинизацией всё, что относится к советскому прошлому. Российская память о Второй мировой войне включает и гордость, и горе, память о победе и о ее цене, о жертвах, необходимых и бессмысленных. Понимание таких событий меняется с каждым поколением, для того и работают историки и писатели, делаются фильмы и ставятся памятники. Прошлое меняется, как и настоящее. Нелепо только смешивать их, объявляя память о давно прошедшем главным событием последнего года. Такое смешение прошлого и настоящего я называю меланхолией и говорю об этом на разных примерах довольно подробно.
— Одна из ключевых идей «Кривого горя» — это существование в отечественной культуре мистической реакции на события большевистского террора. Непогребенные мертвые присутствуют в жизни живых в виде призраков и фантомов, которым жизнь дает массовая культура. На сегодняшнем российском телевидении самым популярным шоу является «Битва экстрасенсов», где люди, называющие себя магами, ведьмами и колдунами, постоянно общаются с духами умерших, видят призраков и интерпретируют их сигналы. Большим спросом пользуется и магический бизнес, официально разрешенный в России. На ваш взгляд, здесь прослеживается непосредственная связь с особой ролью «неупокоенных» в постсталинской культуре?
— Думаю, что да. Я довольно давно перестал смотреть телевидение, так что не могу его комментировать. Но то, что вы рассказываете, — одно из многих проявлений культурной меланхолии, погруженности в прошлое и пренебрежения настоящим.
— Вернемся к началу. В вашей книге предпринимается попытка интерпретации памяти о большевистском терроре в середине XX века. Вы указываете, что эти события плохо поддаются интерпретации, их окончательная оценка крайне проблематична из-за сложной природы террора. Книга заканчивается словами, что России пора перестать жить прошлым, чтобы адекватно воспринимать себя в одном ряду с партнерами по настоящему. При этом чувство «неверия, что так было на самом деле» вы называете продуктивным для работы памяти, нуждающимся в постоянном поддержании учебниками, мемориалами, музеями, массовой культурой. Возможно ли в такой ситуации вообще надеяться на расставление всех точек над «ï» в процессе десталинизации и проработки опыта советской истории? Может быть, не стоит хоронить непогребенных, чтобы их неупокоенное состояние оставалось лучшим памятником советской истории?
— Хоронить надо тех, кто умер позавчера. Об остальных позаботимся мы с вами, историки. И никаких точек над «ï» мы не ставим, зато очень любим кавычки. Кстати, мой недавно умерший друг, профессор Гарварда и петербурженка Светлана Бойм, когда-то написала хорошую книгу «Смерть в кавычках». Вот ее бы тоже хорошо перевести на русский.
С Александром Эткиндом беседовал Сергей Простаков. Интервью опубликовано во втором номере журнала «Археология русской смерти».
