Мегаполис (глава из книги, ART1)
Скоро в издательстве «Новое Литературное Обозрение» выходит автобиографическая книга «Свое Время» поэта и эссеиста Александра Бараша: один из портретов андерграундной культурной жизни Москвы 1980-х. В частности, Бараш писал тексты для группы Олега Нестерова «Мегаполис», увидев ее еще в тот момент, когда она называлась «Елочный базар». ART1 публикует отрывок из книги, где рассказывается о том, как поэт конструировал рок-лирику, писал манифест группы и предложил ее название, которое известно и по сей день.
Глава «Мегаполис»
Длинный и узкий зальчик какого-то ЖЭКа в Перове. Рок-концерт на две молодые группы. Со сцены звучит лихой анонс: «Перед вами выступает перовская группа “Континент”!» Зал отзывается ленивым одобрительным уханьем, взвизгами и звоном бутылок портвейна. И — покатил аутентичный звук, в честном соответствии с масштабом саморепрезентации. Как пел в то время Дима Певзнер: «Какой был лайф, такой и драйв».
Затем выходит группа «Елочный базар», будущий «Мегаполис», во главе с Олегом Нестеровым, тоже местным уроженцем. Мягкость, лукавство, андрогинность… Странно, арлекин, Вертинский на фабричной танцплощадке. Ощущение неловкости. Но все это чем-то задевает, есть обаяние. А «Электрический утюг» — и вовсе на ура:
Я каждый вечер жду теперь:
она войдет прикроет дверь
потом меня заставит лечь
на атрибуты наших встреч
коснется меня переборов сомненья
и будет гладить до оцепененья
Ооо
Ааа
Я электрический утюг…
Я ходил на подпольные и полуподпольные рок-концерты с ранней юности, с конца семидесятых. Это как-то легко совмещалось с абонементами в Зал Чайковского и Консерваторию и частыми посещениями барочных опер в Институте Гнесиных. Экспансивные и динамичные студенческие постановки в Гнесинском были чем-то вроде связующего звена с реальной, в общем, народной культурой: балаганчиком подмосковных ДК. Концерты «неофициальных» групп были в Москве запрещены, но «область» оказывалась под боком, на расстоянии пешего хода от конечной остановки автобуса.
За спиной — новостройки, автобус останавливается уже у палисадников умирающей деревни, широкая в лужах дорога ведет на холм к белым колоннам храма имени… Пана, видимо, — на кого больше всего похож Ленин? по живости и козлиности — на него, не на Зевса же или Аполлона…
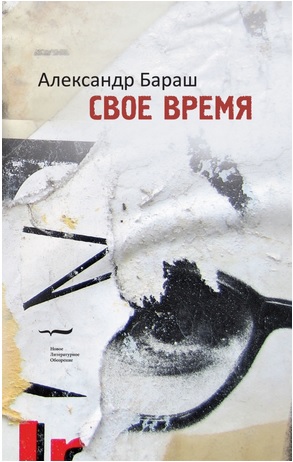 Там, под осеняющим сцену, как венок покойника, перманентным плакатом о единстве упыря и жертвы, рубилась в роковой борьбе с колхозным звуком «Рубиновая атака», скромно цвело короткое, по определению, «Високосное лето», и тоже ничем не запомнилось, кроме удачного названия, «Удачное приобретение». Но из дальнего левого угла зала ясно слышится, как тогда, доверительно-ломкий голос из машины времени: солнечный остров скрылся в туман… кто-то ошибся, ты или я? как будто пачка сигарет, друзей уж нет, друзья ушли давно.
Там, под осеняющим сцену, как венок покойника, перманентным плакатом о единстве упыря и жертвы, рубилась в роковой борьбе с колхозным звуком «Рубиновая атака», скромно цвело короткое, по определению, «Високосное лето», и тоже ничем не запомнилось, кроме удачного названия, «Удачное приобретение». Но из дальнего левого угла зала ясно слышится, как тогда, доверительно-ломкий голос из машины времени: солнечный остров скрылся в туман… кто-то ошибся, ты или я? как будто пачка сигарет, друзей уж нет, друзья ушли давно.
Первую половину восьмидесятых я, конечно же, провел в Аквариуме… временами отвлекаясь на прогулки в Зоопарк и походы в Кино. Гребенщиков для русской рок-музыки был тем же, что Пригов для тогдашней поэзии, — таким Юрием Долгоруким, объединившим удельные достижения многих предшественников и современников. Правда, в нем было еще «волшебство», отрефлектированная и взрощенная лирико-магическая харизма… это ближе к Бродскому, чем к Пригову.
В золотом запасе памяти — чистые, как слеза фаната, слитки счастья: Рок-н-ролл мертв, Мочалкин блюз, Под небом голубым, Старик Коз(л)одоев… Это гопники… Нас здесь никто не любит и не зовет на флэт… Троллейбус, который идет на восток… Потом их сменил Мамонов.
Любопытно, что единственный, кто выжил, ожил через много лет, в иной жизни, — это Цой. Другие остались в своей — той нашей общей — эпохе. «Кино» в начале 1980-х казалось простоватым, и не таким волшебным, как «Аквариум», и не таким энергетичным, как «Зоопарк».
А позже проявилось как что-то более глубокое, с сильным месседжем, пробивающимся через несколько эпох. Соединение депрессивности и веры в себя, совпавшее с эпохой перемен… и вообще — молодое чувство, схожее с аурой и антуражем кино «Маленькая Вера»…
К слову, об антураже. В Перове, как и Нестеров, через него и познакомились, жил лидер панк-группы «Чудо-Юдо» Хэнк — замечательный парикмахер. Мне удалось завоевать его мгновенную, но вечную симпатию, когда на вопрос, какую стрижку хочу, я походя, но от души ответил: «Что-нибудь антисоветское». Хэнк стриг на дому. После некоторого ожидания-покуривания в его комнате, стильнообгаженной, с потеками от плевков на обоях (я старался не смотреть и вообще сидел немного «на иголках», порог физиологической брезгливости у меня тоже антисоветский), клиента выводили в проходную семейную гостиную: раскладной лакированный стол у окна, тюлевые занавески, черно-белый телевизор в углу с кружевной салфеткой и вырезанной из газеты телепрограммой… — и сажали на стул посреди комнаты, покрывая простынкой. Мимо шаркал тапочками папа — отставной военный, из соседней комнаты иногда выпрастывался большой волосатый Мамонт — брат Хэнка, товарищ по группе… Как-то посреди сеанса Хэнк сказал: «Парикмахер я от бога, а с группой — по-другому…». Да. Хэнк был настоящий профессионал, с любовью к делу, и отсвет этой клевости оставался на прическе.
В наушниках на улице я все же слушал «Dire Straights», «Talking Heads» и Стинга, иначе мир маленькой веры стал бы уже клинически непереносим.
I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong… Где-нибудь на Ярославском шоссе, на тропинке в снегу между берез и осин по дороге от автобусной остановки к дому: There’s a moon over Bourbon Street tonight, I see faces as they pass beneath the pale lamplight…
Как свести эти разные измерения, «треки», существующие одновременно? Сохранив акустическую среду, балансы и прозрачность (есть такие понятия в звукозаписи)? Удача, ассистентка режиссера универсального микшерного пульта, свела наши треки — параболы движения — с Олегом Нестеровым.
Кирпичная пятиэтажка внутри дворов, заросших тополями, гаражами и детскими площадками в Перове, недалеко от Измайловского парка. Один мир с моим детством на Октябрьском поле. Словно открыл ящик старого письменного стола на даче, а там лежит и светится все та же новогодняя открытка начала шестидесятых с фосфоресцирующими рубиновыми звездами.
Мы садимся в маленькой, но длинной комнате — из тех, что справа за гостиной в таких трехкомнатных квартирах. Аудиосистема вдоль одной стены и напротив — диван с парой рок-плакатов над ним… Чай, шоколадно-вафельный тортик, записи группы «Елочный базар», мои самиздатские сборники… Вот так это и продолжается четверть века, с переходом от вафельного тортика к французскому вину и «птице с салатом». — И примерно такому же изменению в песнях и книгах.
И, кажется, удалось смикшировать в наших песнях то несоединимое, которое вроде бы не может существовать в одном сознании, «не вынесет двоих». — Что мы, бывшие советские люди, несем в себе: опыт ужаса антиутопии, насилия, бесчувственности ради того, чтобы выжить… — и медитативность, и мягкость, почти до дара слез.
Через несколько месяцев после знакомства, когда мы начали вплотную работать над общими песнями, я предложил новое название группы — «Мегаполис». Оно было одним из вариантов на листе с разбросанными, как нынешнее облако тегов, словосочетаниями. Помню такое: «Милое дело», тоже, в общем-то, вариант… Но остановились на «Мегаполисе», городской музыке, музыке Москвы. И первый совместный альбом, 1987 года, был завязан на городе — и на социуме, столицей которого был любимый город…
Альбом, еще «подпольный» — собственно, кассета, — назывался «Утро», по песне на стихотворение из цикла «Гранитный паноптикум», там подразумевалась позднесоветская Москва:
Когда о радости труда
нудит по радио звезда
краснознаменного ансамбля
заря заняв мою жилплощадь
бюстгальтер розовый полощет
и водяной ворчит в клозете
читая новости в газете —
я чувствую себя как цапля
попавшая по плану в ощип
Это пелось нежным летящим голосом, аранжировалось в духе new romanticism и было как бы внутренним голосом человека, стоящего поутру с кофейной джезвой над газовой конфоркой — перед тем как слиться в канализацию метро…
Одно слово не пропевалось: «нудит по радио звезда». Стало: грустит. Пример соединения двух интонаций — как бы голосов «водяного» и «цапли», социального протеста и интимно-лирической ноты. Ощущений, существующих часто единовременно в одном сознании, в естественно-противоестественном переплетении. В песне еще звучал девичий бэк-вокал — подчеркивая нерасторжимое расподобление… То, что было в стихотворении, выявилось в проекции на музыкальную вещь, в ее внутренней структуре и подаче. Что-то вроде спектакля по пьесе.
У «Мегаполиса» было много композиций, возникших во время многочасовых групповых медитаций-сейшенов «на базе». После таких совместных трипов оставались записи, из которых можно было «нарезать» гораздо больше песен, чем те, которые получили продюсерское воплощение. Во время сейшена Нестеров наговаривал какие-то слова, возникавшие в общем музыкально-интонационном потоке. Иногда это был готовый текст песни, иногда «образ» текста с одним куплетом и припевом, или только «образ» с проплывающими островами слов… иногда музыка без слов, которая могла сойтись со стихотворением.
Я подключался к этим записям-состояниям в наушниках, закрыв глаза и раскачиваясь, — и начинал наговаривать текст, исходя оттуда. То есть делать симметрично то же, что Нестеров делал, беря текст моего стихотворения: проращивать-проговаривать-проявлять месседж… В данном случае музыкальной вещи — в текст. Так было, например, с той музыкой, которая стала называться песней «Будни»:
Небо это то чего не видно
Тело отличается от вещи
тем же чем от яблока — повидло
(не пропевалось, исправлено на
тем же чем от опыта невинность)
В общем
Классические будни
Ночью снится то чего все меньше
То есть то чего не будет больше
Тут в общем-то одно и то же…
Текст песни — тут было что-то близкое к либретто по мотивам своих стихов. Или — к вариации на темы литературного бэкграунда. В «Буднях» можно разглядеть, как это бывает с «записанной» поверх картиной, «школу» Иосифа Бродского, хотя собственно в стихах эта школа уже была преодолена к тому времени, как акмеисты «преодолели символизм», по определению В.М. Жирмунского.
И был еще увлекательный, с элементом игры, «создания моделей», профессиональный челлендж: сделать нечто, имеющее все внешние признаки стихотворения, но им не являющееся. Написать картину в качестве одной из красок.
Может быть, самое характерное отличие песенного текста от стихотворения — своего рода дискретность. Стихотворение держится внутренними, интертекстуальными связями, а текст песни — на ярких отдельных, дискретных вспышках образов и фраз. Если они еще будут и связаны друг с другом чем-то большим, чем логика рассказа, истории любви, то это уже перебор, overprotection.
Вероятно, лучше всего, когда в песенном тексте есть яркая вспышка, задающая тон, дающая ход, тягу, общий драйв. Чаще всего это бывает название и/или припев. В песне «Москвички» к вспышке «сумасшедшие москвички» добавилось — кто это говорит. В первоначальном
варианте лирический герой назывался «отважный капитан». Я заменил его на «какой-нибудь лимитчик», чтобы «вспышка» дискретного образа оказалась как бы двойной и амбивалентной — с неочевидным лирическим героем:
Полуночный декаданс
Полутемное метро —
… усталая Москва
спит ей дела нет
что какой-нибудь лимитчик
пишет где-то в электричке:
о эти сумасшедшие москвички
Путешественник попадает в реальную политическую географию и в мир очень знакомой антропологии…
Еще одно отличие песенного текста от стихотворного — тоже бόльшая дискретность, только не образная, а синтаксическая. Текст песни ближе к разговорной речи, чем к литературной, поскольку рассчитан в первую очередь на слух, а стихотворение, преимущественно, на чтение глазами. В песенном тексте всякая фраза-сообщение, смысловая единица — оказывается хороша, когда она не длиннее естественного выдоха и скорости непосредственного восприятия краткой мысли: то есть на полстроки-строку. Так же отличается от анжабемана, характерной фигуры современных стихов, как смска от разговора, хоть и по скайпу.
И поэтому легко обернулся песней еще один текст соц-артистского типа середины 1980-х, «Будущее. Вариации», разыгрывающий прямые синтаксические оппозиции:
Ты мне представляешься как
больному одышкой чердак
безногому — чехарда
Цветаевой — Пастернак
Пастернаку — автор «Тристий»
девственнице — мастит
золотому зубу кастет
еще строфу — бог простит
как Фрейду — нудистский пляж
Андрею Рублеву — Манеж
инвалидной коляске гараж
и мышеловке — мышь
Но для песни не хватало еще одного куплета. Было интересно клонировать (выражаясь более поздним языком) живую ткань текста:
Будущее — это то
от чего линяет пальто
чему нос не подточит комар
и то чем чем глушат мотор
Последняя строчка «не пелась», заменили на:
И то что было потом
Сейчас, через двадцать пять лет после выхода пластинки «Бедные люди», и лет через двадцать после того, как она уже перестала звучать, греметь как пролонгированный похоронный гимн «из-под глыб» советского мира, наступило, собственно, то самое потом. И «Мегаполис» снова играет ее на концертах в последние несколько лет…
К выходу диска «Бедные люди» — летом 1989 года на фирме «Мелодия», это был исторический прорыв в официальный мир, точнее, к тиражам, к слушателю — я написал статью-манифест о нас, для журнала фирмы «Мелодия». Под задорным названием «Шесть намеков на то, что такое группа “Мегаполис”»; несколько абзацев оттуда были вынесены и на обложку пластинки. «Намеки» — это пункты разговора, кто мы и откуда.
Первый пункт: «Новая волна» — о происхождении от рока и панка и отталкивании от них, если «эмоциональной основой рока считать протест, неважно, социальный или индивидуальный». «Протест и отчаяние — даже они, не говоря о таких шаблонах отечественного рок-ощущения, как довольно идиотическая по своим масштабам меланхоличность или какого-то похмельного типа истеричность… — даже протест и отчаяние оказываются просто несвойственными “чистому” человеку “новой волны”, не чуждыми, а просто как бы далекими. Понять можно, но идентифицироваться нереально».
Пункт 2. «Новая романтика»: «Слово “романтика” обладает для нашего поколения специфической непривлекательностью; перед внутренним взором возникает что-то вроде фанерного щита с названием пионерлагеря… Здесь же рядом — тоска по дому и родителям, марши, речи, одиночество, торчание на солнцепеке во время “линеек”, сдача “рапортов” и так далее. В конце концов интересно, в какой же степени в результате всего этого (отнюдь не прекращающегося с пионерским возрастом) вытравлено в нас желание верить во что-то надчеловеческое, что важнее и светлее, чем каждый из нас в отдельности, и что якобы проявляется, когда мы оказываемся вместе… “Новая романтика” в том варианте, который осуществляет группа “Мегаполис”, — это попытка заглянуть в себя, выяснить, что осталось подлинного в тебе, и назвать его… Ощущение катастрофичности — и общемировой, и в масштабах страны, и индивидуальной — совершенно естественно, но уже очевидно до банальности. Что дальше? Действительно, что дальше? Может быть — “Новая”, человеческая индивидуальная романтика? — Но только не механическое возрождение утраченных духовных ценностей, оказывающееся просто воспроизведением, а не живым творчеством… Необходимо снова и изнутри начать выращивать новую традицию культуры жить, чувствовать, высказывать себя».
Пункт номер 3. «“Городская музыка” (откуда и название группы “Мегаполис”). Мегаполис в нашем ощущении — не просто большой город, а страна, оказавшаяся большим городом, со всей своей внешней функциональной комфортабельностью и удивительной, чуть ли не априорно здесь же заданной, тоскливой отупляющей неестественностью, временностью этих домов, этих улиц, этих квартир… Об этом можно не думать, почти не чувствовать, но жизнь людей в каком-нибудь заводском поселке в ста километрах от Москвы вряд ли чем-то отличается от жизни москвичей в точно таком же квадрате пятиэтажных блочных домов с чахлыми деревцами и синхронным звучанием программы “Время” из открытых окон. Это наш мир, это пейзаж и горизонт нашего детства — да и всей жизни… Второе как-то совсем не устраивает, но, чтобы улететь, надо оттолкнуться. Баланс можно найти, именно балансируя на одной ноге, пытаясь обмануть точку опоры, умилостивить пространство, сдержать почти полную невозможность попытки улететь… Мегаполис диктует мироощущение — отчуждение по всем вертикалям и горизонталям».
«4. Музыка, актуальная в современном культурном контексте. Максимально естественная, максимально интимная, но без форсированности. — Без истерики и фальши, без попыток выглядеть “энергетичнее”, чем есть».
«5. Сочетание музыки и текста. Органический эффект “двоемирия” — сочетания несочетаемого, столь характерные для современного сознания. Текст и музыка часто не совпадают по своей эмоционально-психологической волне, как бы противоречат друг другу, но в то же время пребывают в каком-то органичнейшем единстве. Если мы и привыкли к несоответствию между музыкой и текстом, то к тому, что это делается обычно для достижения комического или сатирического эффекта. В последнее время все большая часть нашей публики знакомится с феноменами концептуальной эстетики (скажем, в “Поп-механике” Курехина), но там — свобода манипулирования культурными контекстами через штампы, и авторским чувствам нет места. “Мегаполис” же прямо рассчитывает на лирический эффект, но какого-то нового типа. По всей вероятности, это вариация постмодернистского видения».
Шестой пункт кратко описывал биографию группы вплоть до появления «диска-гиганта» на «Мелодии».
Это вполне мои оценки и сейчас… Оценки стихов и поэтов в целом тоже мало изменились с юности. Формулировать получается лучше, чем когда-то, но пылкости все меньше… Мандельштам уже не снится, как в восемнадцать лет, на краю могильной ямы во Владивостоке. В любом случае в литературных оценках я явно был всегда адекватнее, чем в оценке людей. Смайлик. Концертов становилось все больше, и они проходили на лучших рок-площадках.
Сидеть в толпе на стадионе и видеть, как твои стихи, сливаясь с качественной и трогательной музыкой, живут в большом общем мире — это было редкое счастливое ощущение полнокровности жизни. Здесь все соединилось и реализовалось, как немногое до и после.
