Сердце Марата под потолком. Интервью Алексея Зыгмонта (Иван Мартов, «Горький»)
Алексей Зыгмонт о мучениках, национализме и смерти, пронизывающей Вселенную
29–30 марта в Москве проходят очередные Банные чтения — конференция, тема которой «Между разумом и верой: светская и религиозная культуры в (пост)модерных обществах». В честь этого события «Горький» встретился и поговорил с религиоведом Алексеем Зыгмонтом, одним из участников чтений. Он рассказал нам о том, зачем национализму нужны мученики, о своей недавней книге про Жоржа Батая и о том, как слиться с гниением и умиранием жизни.Насколько я понимаю, на Банных чтениях вы выступите с докладом о том, что в Новое время были некие мученики типа Марата, которые сыграли в социальных процессах такую же роль, как и мученики в эпоху раннего христианства. Эти жертвы были нужны для трансформации социальной ткани, и вы говорите, что структурно мученики националистических движений и христианские — это одно и то же. Если почитать «Насилие и священное» Жирара, то фигуру Марата, наверное, можно рассматривать в таком ключе, но почему это именно мученичество?
Начнем с того, что Жирар тут никак не помогает, потому что о мученичестве он не писал в принципе, писал о разоблачении учредительного убийства. Я исхожу из противоположной концепции: мученичество зеркально отражает учредительное убийство. В учредительном убийстве «мы» убиваем кого-то и из него творим мир, как Мардук творит мир из Тиамат, как три скандинавских бога — Один, Вили и Вё — творят мир из Имира, в то время как в мученичестве все наоборот: «мы» умираем — и из «нас» происходит мир, какое-то новое бытие, подобно тому как Христос является краеугольным камнем Церкви. На этой интерпретации все и строится. Феномен мученичества возникает в эпоху раннего христианства, в I–II веках, в так называемой иудеохристианской среде, и потом через религиозные идеи, через католическую мистику крови и жертвы получает свое развитие в Новое время. Французская революция конца XVIII века непосредственно питалась от католической мистики.
На основании чего вы делаете такой вывод?
Оснований для этого множество, хотя бы язык. Религиовед Айван Стренски доказал, что некоторые понятия перешли в дискурс французских националистов — еще до Революции 1789 года, но и в этот период тоже — из дискуссий между католиками и протестантами по поводу реальности евхаристии. Потом, того же Марата постоянно сравнивали с Христом, в «Смерти Марата» Жак-Луи Давид воспроизводит иконографию снятия с креста. После убийства из груди Марата достали сердце, устроили за него аукцион и в итоге повесили в вазе под потолком в клубе кордельеров. Но это не только у французов. Американцы сравнивали с Христом Авраама Линкольна, аболиционист Уэнделл Филлипс в посвященной Линкольну речи вспоминал фразу Тертуллиана, что «кровь мучеников есть семя Церкви». Ирландские националисты называли себя «самой распятой из всех наций» — все это христианские понятия и образы, относящиеся к мученичеству, так что нет оснований видеть здесь какой-то принципиально иной феномен.
Считать, что христианские понятия имели ту же силу после эпохи Просвещения — на мой взгляд, несколько смело, разве нет?
Нет, вполне нормально, потому что, куда ни посмотришь, везде есть мученики, и это касается не только национальных, но и общественных движений. Сегодня праздник под названием «День мучеников» существует примерно в тридцати странах, новые культы возникают буквально у нас на глазах: культ «Небесной сотни» в Украине появился в 2015-м, в прошлом году такой же праздник ввели в Бангладеш. Но это в XX веке, а если заглянуть в предыдущие эпохи, то в каждом отдельном случае религиозные корни совершенно очевидны. Например, в США есть культ «мучеников-президентов». Первым был Линкольн, которого убили после Гражданской войны, он якобы умер за объединение страны и освобождение рабов. После этого были убиты еще два президента — Гарфилд и Мак-Кинли, потом мучеников пытались сделать из Вудро Вильсона, Уоррена Гардинга. Последним «мучеником-президентом» стал Джон Кеннеди, и потом его жена Жаклин обставила его похороны по аналогии с похоронами Линкольна. Еще замечательная деталь: катафалк, на котором везли тело Линкольна, до сих пор используется для похорон знаковых государственных деятелей США, последним был Джон Маккейн.
Того же Линкольна начали стихийно сравнивать с Христом уже в день убийства, в том же году был издан пухлый сборник проповедей «Наш президент-мученик». Мистика жертвы была популярна в США еще раньше в связи с тем, что пуритане привезли с собой одну из главных их книг — «Книгу мучеников» Джона Фокса, в которой тот достраивает историю Церкви до католических гонений на протестантов, и для него это именно Церковь мучеников, как у Евсевия Кесарийского. Еще были аболиционисты-квакеры, у них культ мучеников тоже был очень развит. Самый яркий пример — Джон Браун, который организовал вооруженный налет на арсенал Харперс-Ферри. На самом деле он был довольно большим ублюдком, перепробовал с десяток профессий и мало в чем преуспел, а потом взял пушку и вместе с группой мятежников напал на арсенал, — рабов освободил, а всех белых перестрелял. После этого его повесили. За время пребывания в тюрьме он последовательно делал из себя мученика, рассылал письма, где говорил, что его смерть подобна жертве Спасителя и так далее.
В эпоху Французской революции было множество мучеников и помимо Марата. В своих выступления образы Марата, Лепелетье, мучеников Бастилии и Тюильри очень активно использует Робеспьер. Он говорит, что кровь «мучеников свободы» стала фундаментом Республики — это, разумеется, чистой воды вариация на тему христианского мученичества. То же самое у ирландцев: первым мучеником был Теобальд Вольф Тон, который устроил антибританское восстание в 1798 году, был приговорен к смертной казни, но вскрыл себе вены в тюрьме. Вскоре после этого была опубликована книжка «Жизнь Вольфа Тона, писанная им самим и продолженная его сыном», в которой он представляется как христоподобный мученик. Потом в это поверила его жена, которая с детьми бежала во Францию, была принята Люсьеном Бонапартом, младшим братом «того самого» и министром иностранных дел, — и он тоже поверил. Кульминацией ирландского национализма стало Пасхальное восстание 1916 года, среди организаторов которого были честные леваки типа Джеймса Коннолли, но возглавлял его католик Патрик Пирс, которому очень хотелось крови и жертв. Он даже специально говорил, что некоторым хочется без насилия, но без насилия, к счастью, ничего не получится.
И вот как-то так получается, что мы берем отдельные вещи, и все они складываются в единую картину: культы мучеников играют роль «движка» национализма. Может быть, не любого национализма, но во всяком случае огромного количества генетически не связанных между собой движений. То есть возникает какое-то национальное движение, кто-то начинает поднимать восстание (у них еще нет ни государства, ни массовой поддержки), и вот кого-нибудь убивают. Из него делают мученика, говорят: «Марат умер за Францию, Марат умер за Республику!», и это мобилизует сторонников жертвы — «мы» должны продолжить его борьбу и сражаться за общее дело. И очень часто «мы» достигаем своей цели именно за счет мучеников, либо они сильно способствуют продвижению этой цели.Вы говорите, что есть прочная связка «национализм и мученичество», но ведь христианские мученики с национализмом связаны не были. Или вот пионеры-герои в СССР — похожий, по сути, феномен — были скорее героями классовой борьбы, национального строительства за этим не просматривается. Может, здесь стоит говорить о каких-то более широких социальных процессах?
Вы говорите, что есть прочная связка «национализм и мученичество», но ведь христианские мученики с национализмом связаны не были. Или вот пионеры-герои в СССР — похожий, по сути, феномен — были скорее героями классовой борьбы, национального строительства за этим не просматривается. Может, здесь стоит говорить о каких-то более широких социальных процессах?
Национализм возникает не с христианством, а перед Французской революцией и получает наиболее масштабное распространение позже, в XIX–XX веках. И сейчас мученики есть у сепаратистских движений, которые хотят свое государство, — например, у каталонцев, валлийцев, курдов, тамилов, даже у индийских маоистов, их называют еще «наксалитами», которые, казалось бы, должны быть леваками и ничего такого не иметь, бороться с религией и отстреливать воробьев, — чудовищный культ мученичества, и это пришло из христианской риторики. Это же касается, скажем, аболиционистов, суфражисток и движения за права чернокожих — у всех у них были мученики, которые, как считается, привели их к победе.
Как вы различаете мученичество и героизм?
Понятие героизма для меня бессмысленно, потому что мученичество всегда конструируется постфактум, уже в дискурсе сторонников кого-то, кто умер. Поэтому личная мотивация в данном случае абсолютно неважна. Есть несколько вариантов: некоторые люди хотели стать мучениками и сознательно искали смерти, у других просто так совпало, третьи умирать не хотели и пожертвовали собой спонтанно. Пример последнего рода — знаменитая мученица суфражисток Эмили Дэвисон, которая в 1913 году на английском дерби вдруг бросилась под копыта лошади короля Георга V. Потом это сделали актом протеста против принудительного кормления арестованных активисток «Женского общественно-политического союза». Так вот, у нее в кармане нашли обратный билет на тот же день в другой город, то есть заранее она ничего такого не планировала. После этого, кстати, люди начали поклоняться как реликвии ее разноцветному шарфику, он сохранился до сих пор.
В современных исследованиях мученичество — это идея, «литературный жанр». Иногда из кого-то получается сделать мученика, а иногда нет: например, в случае с Вильсоном, Хардингом или радикал-анархисткой Эммой Гольдман не вышло, а вот с Кеннеди — да, потому что за него крепко взялся президент Линдон Джонсон. Он говорил: «Ну, знаете, на самом деле он умер просто так, ни за что. Поэтому я должен придумать ему „дело”, за которое он умер». И так получалось чаще всего. При этом не нужно считать, что это изобретение или амбиция одного человека, очень часто это стихийное явление, которое охватывает сразу целую страну. Большое значение играют, например, стихи и песни — культы мучеников активно продвигали Торо, Уитмен, Гюго или Йейтс. Поэтому личная мотивация здесь не имеет значения, и героизм тут, в общем-то, не при чем. Героев много, но не все они стали мучениками.
Я попытался вспомнить, какую роль феномен мученичества играл в российской истории и культуре, и, мне кажется, самые яркие примеры связаны со старообрядцами, потом были пионеры-герои, и как будто ничего больше на ум не приходит.
Да, старообрядцы — это чисто религиозные гонения, в этом ничего особого нет. Мец Егерн или Шоа не были связаны с религиозной принадлежностью жертв, но тем не менее о них вспоминают именно как о мучениках в Армении и Израиле, там это национальные праздники.
Как я уже говорил, многие национальные движения появляются прямо на наших глазах. В Украине такое мученичество оформилось вокруг образа «Небесной сотни». У нас тоже пытаются это делать, причем с разных сторон. Владимир Мединский не так давно говорил, что 28 панфиловцев и Зоя Космодемьянская должны почитаться именно как святые. Культ Великой Отечественной и связанные с ней обряды — это культ мучеников хотя бы типологически. Пока что этого слова не произносится, но скоро, я уверен, оно будет произнесено. Переодевающиеся в ветеранов исполняют роль жрецов, которые воплощают сакральные сущности, — тех самых реально воевавших и реально умерших. Была одна замечательная фотография: на ней молодой человек, лицо его раскрашено под флаг, а на голове — башня танка, очень похожая на ритуальную маску индейцев, когда они переодеваются в духов. Люди переодеваются в духов ветеранов.
Мне кажется, это вполне естественно: когда социальная ткань где-то ослабевает, в обществе начинаются процессы, которые пытаются как бы сшить ее обратно. «Наши» проигрывают оркам, но Гэндальф падает в пропасть, и дела налаживаются — в таком духе.
Да, но для этого нужно, чтобы были «наши», а очень часто никаких «наших» до появления мучеников нет. После Гражданской войны в США южане и северяне — никакая не единая нация, но потом возникла идея, что как нацию американцев создал именно Линкольн, он «скрепил» ее своей кровью. Так было и после Французской революции, и после Ирландского восстания 1798 года — Патрик Пирс говорил, что Вольф Тон объединил ирландцев, которых до этого не существовало в качестве нации.
Но в этом же нет никакой прагматики, это не чьи-то сознательные намерения — просто такой механизм работы общества?
Да, это социальный механизм, но изобретен он был в раннем христианстве. Я недавно придумал метафору: мученичество — это когда с тобой играют в шашки, а ты тайком играешь в поддавки. Когда кого-то из «наших» убивают, «они» думают, что это они выигрывают, а на самом деле выигрываешь «ты». Если посмотреть по итогам — где сейчас Римская империя и где Церковь? Понятно, кто победил. В случае национализма все немного сложнее, потому что очевидно, «мы» — милитантная группа, которая зачастую реализует свои цели с помощью насилия. Христиане тоже воображали себя борцами на арене, воинами, солдатами и прочее, но по факту они ими не были. Когда появились воинственные националисты, игра немного изменилась — это стали попеременно то обычные шашки, то в поддавки: сначала «мы» играем в поддавки, а потом переворачиваем правила, и получаются обычные шашки. Например, люди идут на штурм Бастилии или Тюильри и знают, что могут умереть, хотя собираются, в общем-то, не жертвовать собой, а устроить кровавую баню. Но когда они погибают, «мы» говорим, что они пожертвовали собой за «общее дело», и потом их образы работают на легитимацию дальнейшего насилия.
Поэтому о прагматике можно судить только в каждом случае по отдельности. У Робеспьера она была, у Эммелин Панкхёрст, которая сделала культ Дэвисон, тоже. У первых иудеев и христиан, а потом, например, сикхов, ее не было, там просто религиозные убеждения. То же самое с культом Линкольна — там чистый аффект, массовое движение и ни капли расчета.
Что вы читали, когда работали над этой темой, и что можно посоветовать почитать о мученичестве тем, кто ничего или почти ничего о нем не знает?
На русском — практически ничего, разве что частные статьи и переводы. Недавно вышло блестящее издание четырех книг Маккавеев с комментарием, где есть много всего интересного про мученичество в целом. А так нужно читать в основном на английском, иногда по-французски или по-немецки. Еще здесь очень важно преодолеть «естественную установку» на то, что мученики — это всегда невинные жертвы, которых все гонят и прочее. Это некорректно даже в отношении христианства, что бы там ни говорили апологеты и конфессиональные авторы.
Сильное впечатление на меня произвела книга Даниэля Боярина Dying for God, там он как раз пишет, что мученичество — это литературный жанр, и притом на блестящем материале из иудаизма и христианства. Есть классические работы вроде Глена Бауэрсока, есть более провокативные вроде книги Кандиды Мосс. Но особенно важно, что только в последние годы исследования мученичества в национализмах и общественных движениях перешли от статей к сборникам — Martyrdom and Terrorism или Secular Martyrdom in Britain and Ireland, например, совершенно потрясающие. В России эта тема, о которой мы с вами говорили, совершенно неизвестна и вызывает отторжение. Обычные исследователи национализма или мученичества на такие синтетические вещи, в общем-то, демонстративно закрывают глаза и говорят, что это какая-то муть.
В прошлом году у вас вышла книга о Жорже Батае. Скажите, что для вас эта книга значит, почему вы за нее взялись и что хотели сказать об этом французском философе?
Занялся я им почти что случайно, когда хотел писать диссертацию о концептах насилия и сакрального в французской философии. Отталкивался я от Жирара и искал, кто еще об этом писал — Батай, Кайуа, Кристева? Изначально про Батая должна была быть только первая глава, но в итоге появилась целая эта книга, потому что внезапно оказалось, что мне есть что о нем сказать. Я взялся просто его прочитать, будучи по образованию не философом, а религиоведом. Философы, которые немецкой или русской мыслью занимаются, в безобразной манере на меня наезжали: мол, все это «литература», а «солнечный анус» — чушь и умора. У тех, кто занимается Семеном Людвиговичем Франком, от батаевских фраз вроде того, что «сущность религии — в насилии», опасно повышается сахар в крови.
Хотя я пытаюсь раскрыть его через концепты насилия, сакрального и всего с ними связанного, мне кажется, я понял, что он пытается сказать. Что ему нужно — так это десубъективация, преодоление «проклятия индивидуации» по Ницше. Вот он сидит за письменным столом, ему все надоело, он хочет перестать быть собой, перестать сидеть за этим столом, ходить в магазин и скучно обедать — он хочет выйти в какие-то другие сферы и кайфовать. А насилие и сакральное — это всего лишь проекция этого его основного мотива на субъект, общество, религию и вообще всю вселенную. Сакральное — это то состояние, которого он хочет достичь, а насилие — то, с помощью чего оно достигается, оно необходимо, чтобы пробить скорлупу «самости» и удержаться в насилии и смерти, в этом жертвоприношении. Для него все это было серьезно, сохранились тексты его медитаций, и там, например, есть такие строки: «Безголового принимаю в насилии, серный огонь его принимаю в насилии, древо и ветер смерти принимаю в насилии» и прочее. Надеюсь, мне удалось сказать что-то и про эти медитации, и про Ацефала, и про его аллюзии на Французскую революцию — например, он тоже апеллировал к фигурам Робеспьера, Марата, де Сада, к казни Людовика XVI. При этом насилие для Батая — это не кого-то там ударить топором, он этого не любит. Его насилие — это «Тигр, о тигр, светло горящий», как у Блейка [пер. С. Маршака], или паук — он предлагает очень странные образы, чтобы отдалить нас от идеи удара топором.
Как «театр жестокости» Арто, для которого жестокость — не акт агрессии, а некая трансгрессия.
Конечно, но для Батая это не только и не столько зрелище, зрение для него — это неподлинное субъектно-объектное восприятие. Ему важно преодолеть границу, как и у Арто, между воспринимающим и тем, кто совершает священнодействие, — условно говоря, чтобы жертвующие, жертвователь и жертва слились воедино.
А как такое возможно?
Например, так: представьте, что вы ацтек, у вас есть пирамида, на вершине которой приносят жертвы Шипе-Тотеку, «вашему освежеванному владыке», и вниз на вас сбрасывают кожи, содранные с живых людей, потом их головы, руки и ноги — вы не сможете оставаться от этого «защищенным» и думать о чем-то приятном. Даже если вы не сольетесь с жертвователем, вас это чрезвычайно сильно затронет. Здесь могут быть важны не только зрелище или переживание, но и звуки: например, в Элевсинских мистериях на самом пике обряда жрица Диониса в безумном экстазе издавала пронзительный крик, ololyge. И вот когда вы стоите и от всего этого кошмара охреневаете — это, по Батаю, и есть сакральное.
А для чего это нужно?
Для переживания себя в качестве человеческого существа, потому что, когда вы сидите за столом и пишете, вы пишущая машинка, а когда грузите коробки — вы автопогрузчик. А когда вы принесли в жертву свою индивидуальность, вы можете на время слиться с жизнью вселенной в виде расточения, гниения и умирания или оказаться в шкуре другого человека — но эта шкура тоже должна быть пробита. Беда в том, что четкой границы между активным и жертвенным насилием нет, она подвижна. Батай пытается ее провести, но часто не может. Поэтому, например, он восхищается кровавыми жертвами ацтеков или Великой войной 1914 года, а потом говорит: «Ой, вы знаете, на самом деле насилие — это тигр или паук». Отсюда получается, по большому счету, что у него одно и то же слово «война» фигурирует в трех разных значения — это архаическая война, близкая к жертвоприношению, духовная борьба с собственной индивидуальностью и современная война, где «насилие» уступило место «жестокости» и техническому расчету. Конечно, Батай поскальзывается на каждом шагу, поймать его за руку вроде как очень просто, но этим-то он и симпатичен, и поэтому мысль его очень живая.
Вы занимались творчеством Батая несколько лет — что за эти годы он дал лично вам, как вас изменили его книги?
Да в общем, никак. Я его нежно люблю, он мне симпатичен как человек, и это редкий пример интеллектуала, который умеет и любит фантазировать. По сути, он сам знает, что фантазирует, грезит наяву, насилие и сакральное для него имеют воображаемую природу, они «разрывают» человека скорее изнутри, чем снаружи.
Мне близка его эстетика — все эти образы пронизывающей вселенную смерти, ослепляющее солнце, сгорающие головы, пустота вместо бога и прочее. У его последователей из числа философов все это теряется. Забавным образом содержательно эта его эстетика сейчас точнее всего отражается в отдельных блэк-метал проектах. Те же французы Deathspell Omega ассоциируют это его вселенское разрушение с дьявольским началом, сжигающим и разлагающим жизнь изнутри нее самой — они буквально, как и Батай, цитируют в текстах песен Гегеля. Или есть такой белорусский проект Leprous Vortex Sun, их единственный пока альбом «По направлению к солнцу, плавящему изнутри кости» открывается семплом из интервью с ним. Из философов эту эстетику воспринял Ник Ланд, но он идиот, а какие-нибудь Агамбен, Бодрийяр или Нанси понимают ее плохо.
В целом книги Батая для меня скорее дружеские, чем учительские. Рене Жирар повлиял на меня куда больше: какое-то время я везде видел или находил жертвенный кризис, козлов отпущения, всю эту борьбу двойников и прочее. С удовольствием нашел учредительное убийство во всех книжках Чуковского — особенно в «Мойдодыре», где толпа умывальников топит мальчика в мойке.
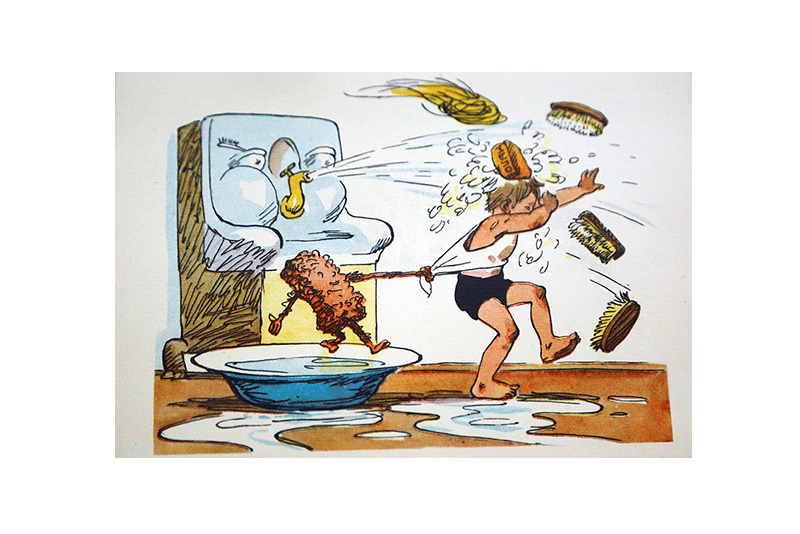
В связи с его последней книгой, которую я перевел, «Завершить Клаузевица», я разработал целое «богословие двух стульев». Основная мысль книги — в том, что сейчас человечество может выбрать либо «Устремления к крайности», то есть умножение насилия вплоть до гибели мира, либо пойти по пути Царства (Божьего), когда мы отрекаемся от насилия и принимаем себя в своей пустоте и тождественности с другими людьми. Так вот исходный вопрос этого богословия — классический: «Есть два стула: на одном Устремление к крайности, на другом — Царство. На какой сам сядешь, на какой соперника посадишь?». Вопрос с подвохом, потому что, когда у вас есть соперник, вы уже выбрали насилие, а не примирение. Но ответ есть, и вполне по фене: «Сам на Царство сяду, соперника на колени посажу». Но получается так, что, когда вы смиряетесь и допускаете кому-то быть выше вас, он отвечает вам тем же, и на стул на садится никто: Царство остается между вами как новообретенная дистанция, позволяющая вам не теряться в чужом бытии. Так иногда если два молодых человека влюблены в одну девушку, они могут отказаться от борьбы за нее и сойтись, потому что чувствуют одно и то же.
Вы упомянули Джорджо Агамбена — замечательного, на мой взгляд, автора. Я натыкался у вас в фейсбуке на критические замечания по поводу его книг, — как вы в целом относитесь к его работам и какие у вас к нему претензии?
В целом я его очень люблю, особенно его манеру делать потрясающие выводы из какой-нибудь одной мелкой детали в неопубликованной рукописи такого-то года и еще его внимание к терминам и их истории. Некоторые его замечания я считаю просто потрясающими — например, трактовку «ответственности» во втором томе Homo Sacer, «Архив и свидетель»: он пишет, что это правовое понятие, ее всегда «вменяют» извне, и никто не несет ответственности в отношении вреда, который нанес самому себе или который нанесен с чьего-либо согласия, согласно формуле volenti non fit iniuria. Поэтому когда кто-либо начинает говорить про ответственность за свою жизнь, за других, перед богом и прочее, то первым делом нужно спросить: а судьи кто? Кто «вменил» мне эту ответственность и какое он имеет на это право?
Главный недостаток Агамбена в том, что в его блестящих текстах нет проблемы, изложение уходит в никуда. В «Оставшемся времени» он анализирует «мессианическое» у апостола Павла — какими должны быть время и наша жизнь после прихода мессии. Понятно, что эту так называемую «проблему» он берет у самого помойного философа всех времен и народов — Вальтера Беньямина, — но неясно, зачем это надо, если вы не еврей и мессия вам нипочем. То же касается «Царства и славы»: книга хорошая, читается легко, на шести сотнях страниц он разбирает концепты «управления» и «божественного домостроительства» в христианском богословии. Намек такой, что к ним восходит современный менеджмент, но доказательств нет, кроме того, что «оно похоже». А первая часть Homo Sacer, «Суверенная власть и голая жизнь» — и как раз об этом я писал в фейсбуке — вообще отправляется от раздутой ошибки: он пишет, что homo sacer — это состояние, когда человека нельзя принести в жертву, но можно убить, и что он находится вне любого правосудия, человеческого или божественного. Однако у Феста и Дионисия Галикарнасского ясно говорится, что формула sacer esto — это посвящение Юпитеру Подземному, форма жертвоприношения, когда приговор приводится в исполнение кем угодно. Так что на самом деле это была и жертва, и приговор, и правосудие. Если что, подробнее можно прочитать об этом в записи в моем телеграм-канале @sacredviolence.
Что вы как ученый считаете на данный момент своей исследовательской программой-максимум и какая книга могла бы со временем стать итогом вашей нынешней работы?
Наверное, это будет книга о религии и насилии в целом либо о мученичестве, и я уже знаю название — «Агнец и его меч». Это основное, что меня сейчас интересует: каким образом сходятся и переходят друг в друга жертвенность и милитантность. Лучший пример здесь — Авель: первый убитый, первая невинная жертва, о которой в Книге Бытия не говорится практически ничего. И тем не менее в поздней традиции — например, в апокрифическом «Завещании Авраама» — он становится грозным небесным судьей наподобие Мидаса. В средневековых текстах мученики умоляют об отмщении, и я не вижу здесь никакой разницы с мучениками Французской революции, которые возвращались в мир живых в виде истекающих кровью теней или «манов», чью жажду можно было утолить только собственной и вражеской кровью. Вот такой жестокий парадокс, из которого я пока для себя сделал вывод, что никаким жертвам, мученичествам и героизмам верить нельзя. По крайней мере, с наскока.
