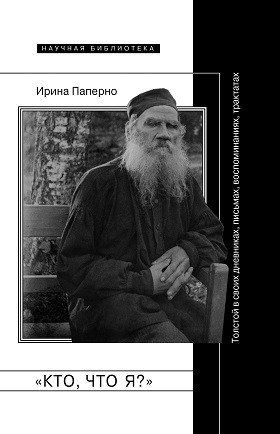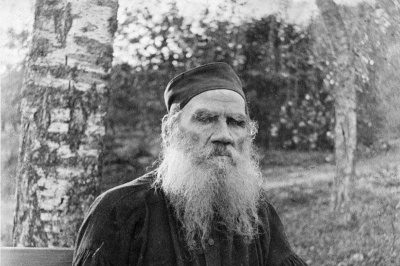
Толстой, Августин, Руссо: отрывок из книги «Кто, что я?» Ирины Паперно
9 сентября был юбилей Льва Толстого. Весь мир вспоминает его творчество. Специально к этой дате мы выпустили книгу Ирины Паперно «Кто, что я?», посвященную исследованию его писем, воспоминаний и дневников. Публикуем отрывок из книги — о том, какое место занимает «Исповедь» Толстого в истории литературы и как она повлияла на философию XX века.
Толстой, Августин, Руссо
Каково же место «Исповеди» Толстого в традиции, столпами которой являются Августин и Руссо?
Принято считать, что в конце восемнадцатого века Руссо подверг секуляризации жанр исповедального повествования об обращении в истинную веру, созданный Августином в его «Исповеди», и положил начало особому литературному жанру, сохранив при этом и сюжет обращения, и слово «исповедь». В свою очередь, Толстой произвел новую революцию, вернув жанру исповеди его первоначальное религиозное значение. В самом деле, у Толстого, как и у Августина, герой-повествователь обращается от неверия к религиозной вере и исповедуется в грехах, а не пишет свою автобиографию (именно поэтому Толстой описывал поступки своей юности, обычные для человека его социального круга, как нарушение христианских заповедей). Более того, в своей «Исповеди» он закладывает основы для исповедания принципов новой веры («Исповедь» мыслилась как вступление к еще не написанному богословскому сочинению).
Заметим, что между «Исповедью» Толстого и «Исповедью» Августина имеются значительные различия. В частности, в отличие от Августина, Толстой не пытался философствовать о природе своего «я» и сущности времени. Однако он обращался к этой задаче в других автобиографических повествованиях, «Моя жизнь» и «Воспоминания», речь о которых пойдет в следующей главе.
В европейской литературе второй половины девятнадцатого века немалое место занимали автобиографические повествования о потере веры и поисках новой, такие как «The Nemesis of Faith» (1849) Джеймса Энтони Фроуде, «Apologia Pro Vita Sua» (1864) Джона Генри Ньюмана и незаконченные мемуары Эрнеста Ренана «Souvenirs d’enfance et de jeunesse» (1883), искания которого не увенчались успехом. Однако «Исповедь» Толстого занимает особое место в этом ряду: Толстой отрекается не только от ложной веры, но и от роли писателя и от жанра литературной автобиографии. «Исповедь» Толстого — это не литература.
Созданная по образцу и подобию «Исповеди» Августина, «Исповедь» Толстого отвечала духовным потребностям человека того времени — человека светского образования, в распоряжении которого имелись немалые средства самопознания и самоопределения, заимствованные из литературного арсенала современного романа (к их созданию приложил руку и Толстой-романист), но беззащитного — в силу безверия — перед лицом смерти. В этом смысле позиция Толстого была регрессивной: он пытался вернуться назад, к истокам исповедального жанра — в полном сознании тех потерь, которые понес современный человек на пути просвещения и прогресса. Нет сомнения, что успех и влияние «Исповеди» были основаны на репутации Толстого-писателя, но этот текст заявляет о решительной перемене в его отношении к роли писателя. Представляя институт литературы как ложную религию (языческий культ), после обращения он отрекается и от литературы, и от самого понятия авторства.
Влияние «Исповеди»
Известно, что для многих современников чтение «Исповеди» и последовавших за ней религиозных сочинений Толстого способствовало религиозному обращению.
Такова история Павла Ивановича Бирюкова (1860–1931). Дворянин и офицер флота, он был мучим сомнениями в правильности выбранного пути. Чтение сочинений Толстого, а затем встреча с автором в 1884 году решили его судьбу: Бирюков вскоре покинул службу и посвятил всю оставшуюся жизнь распространению идей Толстого. (Бирюков стал также автором биографии Толстого, которая представляет всю его жизнь как путь к вере.) Вот как Бирюков описывает свое обращение:
Чтение религиозных сочинений Толстого, прежде всего «Исповеди» и «В чем моя вера», сразу захватило меня и поставило жизнь мою на новые рельсы. Вместе с тем эти единственные в своем роде сочинения перекинули мост через бездну, перед которой я стоял в душевном трепете, и дали мне возможность продолжать путь жизни.
Бирюков пользуется здесь словарем Толстого, включая и образ бездны из завершающего «Исповедь» сна. Другой пример касается человека из иного мира. Религиозные произведения Толстого, как принято считать, сыграли большую роль в жизни Людвига Витгенштейна (1889–1951).
В августе 1914 года, находясь на службе в австрийской армии в Галиции, Витгенштейн (согласно известной биографии философа) зашел в книжный магазин и приобрел там «Краткое Евангелие» Толстого. «Эта книга захватила его. <…> Он повсюду носил ее с собой и перечитывал так часто, что мог цитировать целые абзацы наизусть.» Витгенштейн рекомендовал эту книгу людям, находившимся в трудном духовном положении. Позже он говорил, что «Евангелие» Толстого сохранило ему жизнь. Тогда, на Восточном фронте, ожидая наступления русских, Витгенштейн думал о неминуемой смерти. Как он записал в дневнике, «да будет мне дано умереть хорошей смертью». Рассуждая в терминах Платона, он ставит себе задачу отделить душу от оков тела для жизни в ином измерении. Толстой помог молодому философу, который потерял религиозную веру в школьные годы, упражняться в искусстве умирания. Возможно, что Витгенштейн был подготовлен к восприятию религии Толстого, а также к религиозному обращению перед лицом смерти чтением (в 1912 году) книги Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта»(1902), которая заключала в себе описание обращения Толстого и его «Исповеди». Влияние Толстого сыграло роль и в решении Витгенштейна поселиться после войны в деревне в качестве школьного учителя (его педагогическая деятельность, впрочем, не удалась). В более поздние годы Витгенштейн совершил то, что не удалось Толстому: он отказался от состояния, очень значительного, в пользу сестер и братьев и прожил всю оставшуюся жизнь, посвященную философии, в бедности.
Толстой повлиял и на философские взгляды Витгенштейна, в частности в положениях «Логико-философского трактата» — в недоверии к слову как внешней форме речи, маскирующей мысль. (Опубликованный в 1921 году, «Трактат» был написан во время Первой мировой войны на основании фронтовых дневников, в которых упоминается Толстой.) Один исследователь слышит эхо идей Толстого в знаменитой формуле, заключающей «Трактат»: «О чeм невозможно говорить, о том следует молчать». (При этом он указывает на завершающий «Исповедь» сон, который как бы заменяет весь рассказ.) Однако, как указывает тот же исследователь, молчать Толстому не удавалось. Добавим, что здесь уместно вспомнить слова из позднего дневника Толстого: «Если не было противоречием бы написать о необходимости молчания, то написать бы теперь: Могу молчать. Не могу молчать. Только бы жить перед Богом <…>. (57: 6; курсив Толстого). В отличие от Витгенштейна-философа, для Толстого вопрос о невозможности говорить был вопросом религиозным.
* * *
Вскоре после «Исповеди» Толстой после долгого перерыва вернулся к регулярному ведению дневника. В его поздних дневниках, после обращения, борьба с вопросом «Кто, что я?» продолжалась ежедневно и вполне сознательно: день ото дня Толстой работал над парадоксальной задачей описать «я», которое лежит за пределами времени и повествования. Чем старше он становился, тем сильнее было желание освободиться и от тела, и от личности, готовя себя к окончательному слиянию с Богом. И тем не менее Толстой время от времени возвращался к художественной литературе. Более того, он предпринял попытку написать свои мемуары или автобиографию. Следующая глава посвящена именно этим попыткам.