Рецензии
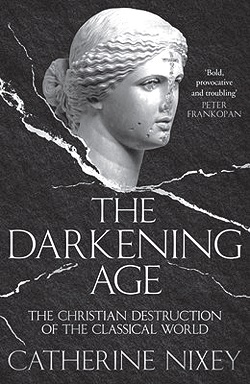
The Darkening Age. The Christian Destruction of the Classical World
Catherine Nixey
London: Macmillan, 2017. — 338 р.
Море исторической литературы всегда было безбрежным, а потому выделиться на его просторах крайне нелегко, но вышедшая в сентябре 2017 года книга британского искусствоведа Кэтрин Никси «Эпоха тьмы» сумела произвести сенсацию. Ее читатели и критики раскололись на два лагеря, либо безжалостно громя, либо столь же рьяно восхваляя исследование, посвященное уничтожению классической греко-римской культуры первыми христианами. И если например Джерард де Груд, профессор современной истории из шотландского университета Сент-Эндрюс, говорит о труде Никси как о «восхитительной книге, автору которой удалось соединить авторитет серьезного ученого с выразительным стилем хорошего журналиста», то Аверил Камерон, специалист по поздней античности из Оксфорда, считает ту же книгу «пародией», «наихудшим из всего когда-либо прочитанного»[1]. При этом удивительным образом антагонисты нередко единодушны в том, что работу во многих отношениях можно признать новаторской.
В рамках христианского нарратива неоднократно воспроизводилась идея, согласно которой христианство с самого возникновения было гонимой и обороняющейся религией. Никси, однако, весьма жестко напоминает читателю о том, что разрушительная работа, произведенная самими христианами в первые века новой эры, вообще не имела аналогов в мировой истории. В «Эпохе тьмы» эллинистический мир представлен в короткий и произвольно выбранный период, вехами которого стали два события: разрушение храма Аль-Лат в Пальмире в 380 году и закрытие платоновской Академии в Афинах в 529-м. Изображая жизнь того времени, автор затрагивает мученичество адептов Христа, миролюбивые практики язычества, инспирированные христианами правовые сдвиги, меняющиеся под давлением церкви сексуальные нравы. Никси трудно упрекнуть в скрупулезном следовании хронологии: уже во введении она сообщает о том, что погружение в ту или иную культурную область для нее важнее точных датировок. Каждая глава преподносится эмоционально и с чувством, причем автор не скрывает своих симпатий.
«Это книга о том, как христиане разрушали классический мир. Христианское наступление [на классическую культуру] было не единственной напастью, свою роль здесь сыграли пожары, наводнения, войны и само время. Но в этой книге основное внимание уделяется именно погрому, учиненному христианами. Разумеется, речь не о том, что христианство ничего не сохраняло — у него были свои ценности. Но рассказы о добрых делах христиан в тот период повторяются снова и снова, а вот историй о страданиях тех, кого последователи Христа побеждали, не слишком много. Эта книга концентрируется как раз на них» (р. 31).
Никси делит свою работу на главы, которые соответствуют, на ее взгляд, самым черным отметинам этой истории. 312 год — император Константин принимает христианство, делая его официальной религией Римской империи. 330-й — христиане впервые оскверняют языческие храмы. 385-й — христиане уничтожают храм Афины в Пальмире, обезглавив статую богини (рассказу о разграблении этого города предпослан жутковатый эпиграф из святого Шенуды, жившего в IV—V веках епископа коптской церкви: «Нет грехов у тех, кто верует во Христа»). 392-й — византийский иерарх Феофил призывает к разрушению храма Сераписа в Александрии. 415-й — христианские фанатики убивают выдающуюся женщину, греческого математика Ипатию («Прямо в церкви они сорвали с нее одежду, а потом острыми глиняными черепками стали сдирать куски кожи, — пишет автор. — Некоторые рассказывают, что, пока Ипатия была еще жива, ей вытоптали глаза».) Наконец, 529-й — император Юстиниан запрещает нехристианам преподавать и получать образование, после чего афинская Академия закрывает свои двери, завершая 900-летнюю философскую традицию. Рассказывая о христианских бесчинствах, автор постоянно сопоставляет их с разрушительными деяниями так называемого «исламского государства», совсем недавно орудовавшего в тех же местах, что и первые христиане.
По мнению Никси, уничтожение высокой культуры эллинистического мира религией насилия и невежества, каковой под ее пером предстает раннее христианство, до сих пор не получило должной оценки историков и искусствоведов. О «прогрессивности» христианства, как полагает автор, можно говорить сугубо в военно-политическом смысле; в культурном же плане триумф новой веры был мощнейшим откатом назад, «самым грандиозным уничтожением искусства за всю предшествующую человеческую историю» (р. 31). Широко используемые в книге термины «эпоха тьмы» и «темные века» наиболее емко и полно отражают описываемые процессы. Более того, Никси трактует данный период максималистским образом: если некоторые ученые ограничивают его пятью веками, простирающимися с 500-го до 1000 года, то автору больше по душе расширительная трактовка британского историка Эдварда Гиббона, согласно которой «темные века» начинают отступать только с приходом Возрождения и Просвещения.
Деяния христианства невозможно оценить адекватно, если не принимать в расчет личностные особенности тех, кто наиболее рьяно проводил в жизнь его идеи. В этом плане большое внимание в книге уделяется институту монашества и пропагандируемому им культу страдания. Некоторые из выдающихся христианских деятелей, представленных в книге, годами не мылись, так как опасались, что их постигнет похоть при виде собственных тел. Иные скрывали свою наготу под странными одеяниями; например один из «святых» спроектировал кожаный костюм, который прикрывал его голову, оставив отверстия для рта и носа, но не предусматривая их для глаз. Был монах, который три года добровольно провел с камнем во рту для того, чтобы не заговорить, а другой оплакивал грехи людские столь сильно, что слезы якобы прожгли в его груди глубокую рану. Кто-то предпочитал постоянно ходить на четвереньках. Святой Антоний, прославившийся своей борьбой с искушениями, жил в свинарнике, но святой Симеон не нуждался даже в этом, простояв на столбе 37 лет. Святого Бенедикта, основателя западного монашества, Никси называет не иначе как «знаменитым разрушителем древностей». Она вообще не особенно церемонится с христианами, называя их веру «мазохизмом», а ее носителей «невеждами» и «глупцами», не понимавшими предназначения искусства.
Никси не хочет сдерживать эмоций, о чем свидетельствует один из наиболее ярких фрагментов книги:
«Образованные римляне в отчаянии смотрели, как предположительно “нехристианская” литература, а на деле преимущественно рукописи по свободным искусствам, в массовом порядке отправлялись в огонь. Любители искусства с ужасом наблюдали, как величайшие скульптурные творения античности разбивались людьми, слишком недалекими для того, чтобы оценить уничтожаемое, и определенно неспособными создать что-то подобное. Христиане даже ломать как следует не умели: многие храмовые статуи были спасены просто из-за того, что примитивные лестницы разрушителей не могли добраться до них» (р. 34).
В сочинениях отцов и учителей церкви варварство христиан в отношении предшествующей культуры нередко предстает своеобразной «компенсацией» за гонения на новую веру. Автор, однако, ставит этот тезис под сомнение; по ее словам, более поздние биографии различных мучеников, представляя собой «благочестивые легенды», сильно преувеличивали масштаб, продолжительность и жестокость римских преследований, а следовательно, «мстить» античности было просто не за что. Кроме того, для борьбы с христианством не имелось и институциональных причин, поскольку власти Римской империи практиковали толерантность в отношении всех бытующих в их государстве религий. Согласно подсчетам Никси, за три века римского правления, миновавших с пришествия Христа, его адептов официально преследовали чуть больше двенадцати лет; институций, способных методично, последовательно, безжалостно репрессировать христиан, в политической структуре империи просто не было — «римляне были бесконечно более терпимыми, чем христиане» (р. 116).
Разумеется, для римлян лучшей и истинной всегда оставалась их собственная религия, а прочие вероисповедания принимались до тех пор, пока они более или менее соответствовали государственной идеологии. Тем не менее британские кельты свободно поклонялись своей богине Бригантии, а арабы почитали свою богиню Аль-Лат, так как в глазах римлян они представали Викторией и Минервой соответственно. Некоторые конфессии уважались просто за древность происхождения; это касалось в частности иудаизма, причем даже вопреки тому, что сам римский истеблишмент относился к иудейской религии с нескрываемым презрением. Корнелий Тацит, например, называл вероисповедные практики евреев не иначе как «отвратительными», «гнусными» и «держащимися на нечестии, царящем у иудеев» («История», книга V, 5). Точно так же и непонимание христианства римской элитой никак не мешало его бытованию и распространению в империи. Иначе говоря, конфликт стимулировался лишь с одной стороны: в то время, как римское общество распространяло на христиан принципы терпимости, применяемые и к другим религиям, христиане не терпели никакой конкуренции — ни с римской государственной идеологией, ни с иными вероисповеданиями. Эта нетерпимость и составила основу культурной дикости христиан.
Поскольку Кэтрин Никси — искусствовед, она предлагает читателю собственноручно составленный каталог античных, эллинистических и римских памятников, подвергшихся осквернению в первые столетия новой веры. Хотя она широко привлекает в свидетели языческих авторов — например ритора IV века Либания, — по большей части в основе повествования о христианских безобразиях лежат рассказы самих христиан. Так, жизнеописание Феодорита Кирского, представителя Антиохийской богословской школы, жившего в V веке, прославляет уничтожение «святилища лжи», как именуется в нем александрийский храм Сераписа. В биографии патриарха Александрийского Феофила, занимавшего кафедру с 385-го по 412 год, упоминается о том, как по его указанию из того же выдающегося святилища вынесли на улицу наиболее почитаемые сакральные предметы — для публичного поругания их христианами. Фактически за разрушением каждого памятника стояло благословение того или иного подвижника или аскета.
«Агиография не история, и ее свидетельства надо воспринимать с осторожностью. Но, даже если жития не расскажут всей правды, они обязательно приоткроют завесу, за которой она скрывается. И вот тут бесспорным оказывается, что в сердцах многих христиан этот беспримерный погром вызывал гордость и даже ликование» (р. 110).
Западное монашество нередко преподносится в качестве хранителя классической традиции, но, как доказывается в книге, подобный взгляд ложен: до того, как начать беречь оставшееся от римлян и греков, набирающая силу церковь Христова уничтожила примерно 90% древних артефактов.
Особую ненависть у христиан вызывала греко-римская система образования. Ликвидация языческих святилищ означала пресечение культурной традиции: храмы служили местами воспроизводства грамотности, и их закрытие подрывало всю цепочку передачи знаний. Уступив христианам города, язычество пыталось закрепиться в деревне, но в 399 году император Феодосий предписал разрушить все сельские храмы, опекаемые «идолопоклонниками». Ту же линию продолжали и его преемники. Война с языческими храмами была одновременно войной с книжной премудростью, поскольку многие культовые здания одновременно служили и библиотеками. Спустя полторы тысячи лет Эдвард Гиббон, не жаловавший христиан, возмущался: «Пустые полки, на которых некогда теснились рукописи, вызывали сожаление и возмущение у любого свидетеля, чей ум не был полностью помрачен религиозными предрассудками» (р. 88). Кэтрин Никси однозначно поддерживает знаменитого историка. По ее мнению, именно те статьи кодекса Юстиниана, которые запрещали язычникам преподавать и учиться, и положили начало «эпохе тьмы».
Задача, которую ставит перед собой автор, вполне благородна: Никси хотела бы выправить традиционный дисбаланс, сопутствующий привычному для европейской культуры освещению взаимоотношений между первыми христианами и язычниками. Несомненно, она скорбит о грандиозных и невосполнимых культурных утратах, сопровождавших утверждение христианства в качестве доминирующей религии. Но при этом, анализируя борьбу вер, она избыточно, на мой взгляд, абстрагируется от земных факторов религиозной эволюции. Да, диковатое на первых порах христианство сокрушило языческие культы, но исход этой борьбы решался отнюдь не на небесах. Никси предпочитает не упоминать об экономической слабости имперской модели, изменениях в семейных отношениях римского мира, усиливающемся натиске варваров на имперских границах, внутренних противоречиях языческих культов. На примере этой замечательной книги ярко видно, насколько трудно светскому человеку XXI века разбираться с прошлым, пропитанным религией. Критики упрекают Никси в том, что она осуждает позднеантичное христианство за неумение практиковать культурный релятивизм постмодерна. Подобное осуждение, безусловно, несправедливо, но, соглашаясь с этим, британскому искусствоведу нельзя отказать в последовательности. Иногда борьба за беспристрастность взгляда требует подлинной страсти. А вот чувства в этом интереснейшем повествовании больше чем достаточно.
Как уже говорилось, эта книга стала сенсацией минувшего года. Авторитетные периодические издания — среди них «New York Times», «Times», «Daily Telegraph», «Guardian» — включили ее в свои годовые списки лучших книг, а известные телеканалы посвятили ей несколько интеллектуальных передач. К сказанному можно добавить более сотни рецензий, опубликованных всего за несколько месяцев, а также десятки тысяч упоминаний в социальных сетях. Интересно, что в российском интеллектуальном пространстве книга профессора Никси не вызвала почти никакого резонанса. По крайней мере пока.
Реза Ангелов
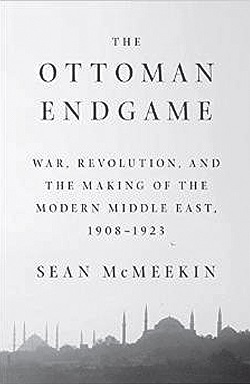
The Ottoman Endgame: War, Revolution and the Making of the Modern Middle East, 1908—1923
Sean McMeekin
London: Penguin Books, 2016. — xviii, 550 p.
Крушение Османской империи в последние годы все больше интересует историков, и не стоит этому удивляться[2]. Величественные сдвиги, наблюдаемые на Ближнем Востоке с 2011 года, которые поначалу называли «арабской весной», а теперь все чаще именуют «арабской осенью»[3], стремительный подъем и последующий кровавый крах так называемого «исламского государства», новое обострение курдского вопроса, хаос в Сирии, Ливии и Йемене, реанимация великодержавных поползновений в нынешней Турции — все эти явления прямо или косвенно связаны с тем наследием, которое было оставлено Османской империей. После того, как многонациональное государство перестало существовать, не выдержав тягот Первой мировой войны, обширные территории трех континентов лишились склеивавшей их вместе могучей упорядочивающей силы. Суждение автора этой книги, согласно которому погибшая империя «обеспечивала унифицирующую основу жизни и общую политическую идентичность для миллионов людей», не вызывает ни малейших сомнений (р. 491). Причем с уходом последнего турецкого султана все эти массы лишились не только светского руководителя, но и духовного лидера, ибо османский владыка был еще и халифом — главным религиозным авторитетом для мусульман-суннитов. В этом смысле он был последней институцией, объединявшей суннитский мир: с 1924 года, когда халифат был упразднен Ататюрком, это место вакантно, а свои претензии на него, как показал опыт последнего десятилетия, готовы предъявлять откровенные проходимцы и авантюристы.
Состоявшаяся в 2011 году публикация предыдущей работы Шона МакМикина[4], посвященной истории Османской империи, вызвала в научном мире большой скандал. Дело в том, что американский ученый, на тот момент преподававший в турецком университете, совершил нечто большее, чем академическая бестактность: он поставил под сомнение сам факт армянского геноцида 1915 года, учиненного младотурками. Согласно его тогдашним выкладкам, во-первых, число жертв «резни в турецкой Армении» составило никак не больше 600 тысяч человек (против едва ли не общепринятых полутора миллионов, хотя, разумеется, ужасают обе цифры), а во-вторых, ответственность за массовые убийства возлагалась им сугубо на русское командование, постоянно подстрекавшее армянских боевиков на выступления против османских властей и не оказавшее им помощи, когда турки решили нанести ответный удар. Для англосаксонской науки такой взгляд был и остается, мягко говоря, нетипичным, за что МакМикину крепко досталось от коллег-историков[5]. К чести автора следует сказать, что в своем новом труде он попытался быть более беспристрастным; по его словам, «подлинного числа армян, сгинувших в 1915 году, не знает никто», хотя «некоторые специалисты говорят о миллионе погибших» (р. 239). Задаваясь вопросом о том, можно ли было спасти армянское население Турции, МакМикин по-прежнему акцентирует внимание на недопустимой медлительности русских в восточной Анатолии, что скорее всего соответствует действительности. Но при этом, однако, теперь он отмечает, что своим шансом не воспользовались и англичане, имевшие возможность высадить десант в населенной армянами Киликии, но не сделавшие этого из-за своей увлеченности предстоящей (и оказавшейся потом бесславной) операцией в Галлиполи (р. 241—242).
Впрочем, книга МакМикина посвящена не только страданиям турецких армян. Это фундаментальная работа о том, как Османская империя, «больной человек Европы», оказалась втянутой в мировую войну, из которой у нее не было шанса выйти невредимой. Автор подробно описывает все перипетии этого затяжного крушения, начиная с русско-турецкой войны 1877—1878 годов и завершая послевоенными мирными договорами 1920-х, утвердившими превращение Османской империи в Турецкую республику. Имперская конструкция была тяжеловесной, старомодной и неповоротливой, но ее обрушение оставило вакуум, который нечем было заполнить. Дележ османских владений, продумывавшийся будущими победителями загодя, когда война была еще в самом разгаре, в итоге не принес успокоения их обитателям. Кстати, комментируя «соглашение Сайкса—Пико», посредством которого Антанта намеревалась упорядочить распределение турецких территорий на Ближнем Востоке, МакМикин подчеркивает фундаментальную роль России в выработке этих печально известных и до сих пор горячо обсуждаемых договоренностей. Весной 1916 года, когда англичанин Марк Сайкс и француз Жорж Пико по поручению своих правительств прибыли в Петербург для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Сазоновым, переговорные позиции России были более чем прочны: на фоне недавних унижений, пережитых англо-французским экспедиционным корпусом в ходе галлиполийской операции, и продолжающейся осады Эль-Кута, где в турецком кольце медленно погибал британско-индийский корпус генерал-майора Чарльза Таунсенда, Россия оказалась единственной державой Антанты, способной похвастаться победами на турецком фронте. Зимой 1916 года войска под командованием Николая Юденича развернули успешное наступление в глубь Анатолии, захватив Эрзурум и Муш, а части, наступавшие по побережью Черного моря, к началу марта оказались в 40 километрах от Трабзона. Иначе говоря, Петербург мог позволить себе поторговаться, и эти возможности сполна были использованы: помимо управления зоной проливов и самим Константинополем, уже обещанными ей прежде, Россия теперь настаивала на передаче под свой контроль большого куска турецкого побережья с центром в Трабзоне, турецкой Армении с городами Эрзурум, Ван и Битлис, а также турецкой провинции Курдистан и — заодно — всего иранского Азербайджана. Иначе говоря, заключает автор, документ, который справедливости ради надо называть «соглашением Сазонова—Сайкса—Пико», «стряпался в русской столице, под русским давлением и на фоне побед русского оружия над турками» (р. 288).
Этот факт, по его мнению, имел критическое значение, поскольку единственным обстоятельством, позволившим Османской империи удержаться на плаву на протяжении XIX столетия, была неспособность великих держав Европы договориться о ее «справедливом» разделе. Теперь же дело было почти сделано, и, если бы не русская революция, карта мира сегодня, вероятно, выглядела бы иначе — или как минимум звезда Мустафы Кемаля Ататюрка никогда не поднялась бы на турецком политическом небосклоне. Россия, однако, подвела: революция выбила ее из состава гарантов будущего послевоенного урегулирования, и это имело весьма печальные последствия не только для нее самой. Во-первых, англичанам и французам пришлось делить турецкое наследство «на двоих», причем отсутствие третьего делало новую систему заведомо непрочной; во-вторых, неожиданная для многих деконструкция империи Романовых позволила притормозить и даже остановить процесс окончательного и бесповоротного распада империи Османов, гарантировав иммунитет территориальному «ядру» Турции в лице Малой Азии и Анатолии. Большевики, предложившие «центральным державам» мир, весной 1918 года санкционированный в Брест-Литовске, с полным правом могут быть поставлены в ряд основателей нового турецкого государства. «В ряду чудес, свершившихся у смертного ложа Османской империи, — пишет автор, — ленинская революция была, безусловно, величайшим» (р. 368).
Поначалу кому-то могло даже показаться, что выход коммунистической России из войны вообще положит конец неприятностям Османской империи, позволив ей сохраниться чуть ли не в прежнем виде. МакМикин, однако, говорит, что Брест-Литовский договор для турок стал «отравленной чашей» (р. 365), подробно поясняя свою метафору. Младотурецкое руководство, в частности министр внутренних дел, а потом и великий визирь Мехмед Талаат-паша, решило, что воцарение большевиков открывает для Турции прекрасную возможность расширить свои восточные границы — и Константинополь с рвением занялся решением этой задачи. По этой причине османские дипломаты, отправленные в Брест-Литовск, потребовали восстановить турецко-российскую границу образца даже не 1914-го, а 1877 года, что предполагало возвращение Турции провинций Карс, Ардаган и Батум. Турки, чья изнуренная войной экономика остро нуждалась в ресурсах, внезапно заявили также о притязаниях на Баку. В ходе не встретившего сопротивления и почти бескровного весеннего марша 1918 года османские войска за два месяца вернули Турции территории, утраченные ею за 40 лет (р. 379), одновременно ввязавшись в целый ряд военно-политических конфликтов на Южном Кавказе. К лету того же года турецкое правительство окончательно испортило отношения с немецкими союзниками, также спешившими обогатиться бакинскими нефтяными полями. Но победа над английскими оккупационными частями, увенчанная вступлением турецких солдат в Баку, которое состоялось 15 сентября 1918 года, не сделалась для Османской империи тем благословенным призом, которым, несомненно, она предстала бы двумя или тремя годами ранее. Увязнув в присвоении обломков Российской империи, османские правители-младотурки упустили из виду сосредоточение вражеских сил на южных и западных рубежах своего государства. Иначе говоря, подобно немцам, турки так и не успели сполна воспользоваться плодами своего нежданного триумфа на востоке, поскольку исход мировой войны теперь решался не Россией и не в России.
После затухающих арьергардных боев с наступающими войсками Антанты империя пала, и ее крушение было оформлено Севрским мирным договором 1920 года. Немилосердный по отношению к туркам характер этого акта во многом был обусловлен тем, что воевавшим сторонам не удалось реализовать популярную под занавес войны идею американского управленческого мандата в отношении Сирии, Палестины и, самое главное, турецкой Армении. Провозгласив право наций на самоопределение в качестве ключевого принципа послевоенного мироустройства, США тем не менее не были готовы поддержать свои декларации практическими мерами:
«Одно дело — сокрушаться по поводу горькой участи османских армян или поддерживать право иных народов Османской империи на самоопределение, и совсем другое дело — посылать своих парней в недружелюбное заморское пекло с задачей утвердить мир между этническими группами, издавна ненавидевшими друг друга» (р. 421).
В 1919 году у американцев не было ни малейшей заинтересованности принимать на себя тяготы забот о новой империи. В итоге Антанте на протяжении 1919 года пришлось наводить порядок в Турции самостоятельно, а из этого мало что вышло, поскольку, допустив несколько грубых ошибок, победители настроили против себя едва ли не все турецкое общество — и фактически не дали империи умереть до конца.
Первым таким просчетом стала организация специальных трибуналов, расследовавших военные преступления обанкротившегося младотурецкого руководства; в ходе их работы десятки османских чиновников были привлечены к ответственности за участие в армянском геноциде. Когда эти судебные органы начали выносить и смертные приговоры, в рядах турецкой военно-бюрократической элиты возникло серьезное брожение, а доверие к правительству в Константинополе, допустившему подобное «унижение», резко упало. Другим ударом по национальному самолюбию побежденных стало привлечение созданного в составе французской армии Армянского легиона к решению оккупационных задач. Высадившиеся в Киликии в начале 1919-го армянские батальоны выместили на здешних мусульманах чувство мести за недавний геноцид: командование неоднократно докладывало в Париж о собственной неспособности добиться от армян поведения, «подобающего французским солдатам». Наконец, самым серьезным просчетом стало решение союзников, санкционировавшее греческую оккупацию Смирны. К тому времени греки составляли половину населения этого 300-тысячного турецкого города. Греческое правительство, мудро вступившее в войну лишь на заключительном ее этапе и теперь торжествовавшее по поводу издавна чаемого ниспровержения Турции, не скрывало своего намерения сделать Смирну центром экспансионистского проекта «Великой Греции», который предполагал «возвращение домой» Малой Азии и турецких островов Эгейского моря. Высадка греческой армады на турецком побережье, состоявшаяся в середине мая 1919 года и немедленно спровоцировавшая стычки греков с остатками османской армии, повлекла за собой важнейшие последствия. С одной стороны, командование Антанты, само устрашенное греческой решимостью, решило уравновесить натиск греков, дав «зеленый свет» итальянской оккупации Анталии и островов Додеканес, включая Родос, а это еще больше раззадорило турок. С другой стороны, именно этот акт положил начало националистической консолидации турецкого общества, возглавленной Мустафой Кемалем, будущим Ататюрком. «Если бы враг не предпринял эту глупую высадку [в Смирне], наша страна так и продолжала бы беззаботно спать», — заявил тогда этот политик (р. 431). Скорее всего он был прав.
Совокупным итогом всех этих процессов стало формирование движения сопротивления, объединившего турецких националистов и, в конечном счете, позволившего «ядру» надломленной империи выжить. Проведенный ими в сентябре 1919 года конгресс принял Национальный пакт (Misak-i-Milli) — документ, в котором провозглашалась неделимость турецкой нации. (Кстати, именно тогда угасли надежды на появление на карте мира курдского государства: из принципа неделимости вытекало, что ни о курдской, ни об армянской, ни тем более о греческой автономии в составе обновляемой Турции не может быть и речи, хотя, между прочим, арабским провинциям предоставлялось такое право, обусловленное проведением соответствующих референдумов.) В январе следующего года вновь избранное Великое национальное собрание, в котором преобладали сторонники Мустафы Кемаля, также одобрило этот документ. Националистическая волна поднималась все выше, и справиться с ней слабое константинопольское правительство уже не могло. Не под силу она была и Антанте: «Без прежней русской армии, служившей на Кавказе мощным тараном, Антанта не имела ресурсов для доминирования в Анатолии, сердце Турции» (р. 434). «Диктаторский мир», представленный османским властям в Севре в мае 1920 года, в новых условиях и без того имел минимальные шансы на утверждение, а греко-турецкая война (1919—1922), закончившаяся сокрушительным разгромом 200-тысячной оккупационной армии греков и масштабным изгнанием греческого населения из Малой Азии, превратила его в бессмысленный клочок бумаги.
Судьба Османской империи парадоксальна. Без устали сражаясь с Россией на протяжении всей своей истории, она, в конечном счете, была спасена от безоговорочного сползания в небытие именно русскими. И, хотя из-за проигранной мировой войны турки лишились всей имперской периферии, некогда победоносные войска Кавказского фронта «воткнули штык в землю» в самый подходящий момент, позволив Турции не только уцелеть, но и сохранить за собой право на наследие Османов, их великодержавные традиции и универсалистскую культуру. Более того, изживая послевоенную изоляцию, турецкие националисты и советские интернационалисты почти незамедлительно бросились в объятия друг друга: так, кемалисты тактически поддержали большевиков в ходе гражданской войны на Кавказе, а ленинцы по условиям Московского договора, заключенного в марте 1921 года, возвратили Турции приграничные провинции Ардаган и Карс. Лозаннский мирный договор 1923 года, перечеркнувший унизительный для поверженных, но непокоренных турок севрский мир, стал большой дипломатической победой нового турецкого режима, поскольку с тех пор границы страны на протяжении века почти не менялись — несмотря на еще одну мировую войну. К началу XXI столетия конституционные исламисты, пришедшие к власти после затянувшейся светской интерлюдии Ататюрка, вновь напомнили туркам о том, что у них некогда была империя.
Андрей Захаров, доцент факультета истории, политологии и права РГГУ
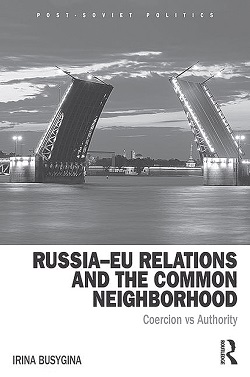
Russia-EU Relations and the Common Neighborhood: Coercion vs Authority
Irina Busygina
Abingdon, UK: Routledge, 2017. — 250 p.
«Еще одна книга об отношениях России и Европейского союза?» — именно с этого вопроса, задаваемого самой себе, начинает свой труд политолог и политический географ, профессор петербургской Высшей школы экономики Ирина Бусыгина. Действительно, что нового можно написать на эту тему? Попытаюсь помочь автору с ответом. Во-первых, эта книга не совсем о России и ЕС, или, вернее, не только о них. На деле автор выходит на большую научную дискуссию об отношениях между силами и отношениях силы в мировой политике, о том, почему и какие формы они принимают, и что с этим можно и нужно делать. Российско-европейские отношения здесь выступают скорее эмпирической базой для подтверждения авторских аргументов. Во-вторых, анализируя взаимодействие России и ЕС через призму основополагающих установок либерального подхода к международным отношениям, Бусыгина приходит к важному выводу: в конечном счете, нынешние трения, а также сложности с третьими странами, которые оказались в сферах влияния России и ЕС, естественны и обусловлены объективными характеристиками становления и развития их политических систем.
Книга делится на два смысловых блока. В первом автор задает теоретические рамки исследования; рассматривает политическое развитие Европейского союза и Российской Федерации, делая акцент на том, как оно отразилось на их стратегиях в отношении друг друга и третьих стран; предлагает анализ отношений Россия—ЕС, а также целей и методов взаимодействия с общими соседями, которые расположились между этими полюсами силы. Второй блок посвящен детальному изучению четырех кейсов: стран, которые в большей или меньшей степени оказались под влиянием России или ЕС — Беларуси, Украины, Грузии и Турции.
Теоретически исследование основывается на концепции силы, которую акторы международных отношений применяют, взаимодействуя друг с другом. Автор рассматривает наборы внешнеполитических инструментов и методов, используемых Россией и ЕС, опираясь на предложенное Дэвидом Лейком разделение на «влияние» (authority) и «принуждение» (coercion)[6]. Влияние представляет собой складывающиеся между акторами отношения подчинения, включающие в себя три обязательных параметра: легитимность, добровольность и надежность обязательств по отношению друг к другу. В подобных отношениях субъект влияния предлагает объекту влияния выгодную сделку, призванную убедить второго в том, чтобы он согласился на ограничение собственной свободы со стороны первого. На отношениях такого типа строится сегодня интеграция новых членов в Европейский союз.
Под принуждением понимается воздействие на поведение другого с помощью насилия или угрозы его применения. Спектр методов принуждения широк — от блокады портов и перекрытия газовой трубы до экономических санкций. Бусыгина отдельно рассматривает мотивы и формы применения стратегии принуждения демократиями и не-демократиями, показывая, что первые склонны применять его, когда политика некой страны является неприемлемой и несет в себе угрозу мировой стабильности, а вторые ориентированы на применение принуждения в отношении, как правило, более слабых режимов. При этом недемократические страны, принуждая кого-то, реализуют свои национальные интересы, понимаемые чрезвычайно широко: от желания отомстить конкретным зарубежным лидерам до демонстрации силы всему мировому сообществу.
Не чуждое нормативности, особенно в свете американской политики «принуждения к демократии», различение между демократическим и недемократическим принуждением тем не менее указывает на важную закономерность: чистое принуждение и чистое влияние существуют лишь в виде идеальных типов внешнеполитических стратегий. Сложная и многосоставная внешняя политика любого современного государства или межгосударственного образования предполагает применение и влияния, и принуждения. Так, в отношениях, строящихся на влиянии, могут применяться санкции разного рода или их угроза. Тем не менее в реализации внешнеполитической повестки какая-то одна стратегия все же выступает доминирующей, и это может быть напрямую обусловлено базовыми характеристиками политической системы.
Анализируя особенности становления независимой России и специфику нынешнего российского политического режима, автор приходит к выводу, что ориентация на использование принуждения во внешней политике является рациональной и логичной. Во-первых, масштабы страны и ее возможности по давлению (в том числе экономическому) на своих соседей создают необходимую базу для такой стратегии. Во-вторых, недемократический характер режима и наличие у его лидера возможности принимать единоличные решения без должного внимания к расчету потенциальных последствий и издержек делают выбор в пользу принуждения более привлекательным. В-третьих, и это проистекает из самой логики принуждения, в краткосрочной перспективе оно позволяет добиваться быстрых и видимых результатов, что в отсутствие долгосрочного планирования становится одним из самых удобных способов достижения заявленных целей во внешней политике и поддержания легитимности действующей власти внутри страны. А если учесть тот факт, что непредсказуемость решений лидера является одной из ключевых системных характеристик его авторитета, становится ясно, что «ручное управление» и ситуативная смена разных методов и форм принуждения выступают, как ни парадоксально, залогом стабильности режима и необходимости считаться с его внешнеполитическими приоритетами, спрогнозировать которые на следующую единицу времени практически невозможно ни для его сторонников в России, ни для зарубежных партнеров.
В Европейском союзе сложилась диаметрально противоположная система координации действий, которая в свою очередь привела к доминированию иной внешнеполитической стратегии — стратегии влияния. Многоуровневая природа ЕС и его институциональная сложность делают невозможной монополизацию принятия решений. Как справедливо утверждает Бусыгина, для такой системы стратегия влияния становится не произвольным выбором, а объективной необходимостью. Влияние призвано постепенно вывести внешнего партнера на орбиту объединения, причем последнему предстоит сначала привести свои институты в соответствие с европейскими стандартами и лишь затем получить «путевку в жизнь» в виде полноценного членства в союзе — то есть из объекта влияния превратиться в одну из составляющих субъекта. Эта стратегия оказывается успешной там и тогда, где и когда партнер воспринимает потенциальное членство в качестве ясного внешнеполитического приоритета и готов справиться с рисками и издержками длительного процесса трансформации. В иных случаях «заточенное» на длительный и постепенный результат влияние не оказывает должного эффекта, и тогда Европейский союз может перейти к использованию некоторых элементов принуждения, например санкций, которые тем не менее подлежат жестким ограничениям, связанным с процессом принятия внешнеполитических решений в общеевропейских институтах.
Отношения России и ЕС, таким образом, изначально характеризуются разными доминирующими стратегиями реализации задач во внешней политике. А что насчет целей? Насколько совместимыми оказались интересы этих полюсов силы? Бусыгина утверждает, что, несмотря на все заявления и договоры, Россия и Европейский союз никогда на деле не были стратегическими партнерами. ЕС не сумел в начале становления современной России предложить ей полноценную политику трансформации институтов, а отдельные страны Европы, наиболее заинтересованные в хороших отношениях с Российской Федерацией, предпочли двухсторонние пути взаимодействия громоздким и длительным многосторонним форматам. Такое положение вещей оказалось менее обременительным и для России; в итоге партнеры придерживались его на протяжении 2000-х годов, окончательно обособив друг от друга каналы взаимодействия — успешный экономический и неудобный политический. Все рухнуло в 2014 году с кризисом на Украине, аннексией Крыма и введением взаимного санкционного режима.
Подобное развитие событий, по мнению автора, было обусловлено системным расхождением интересов России и ЕС в отношении общих соседей. Для России, заинтересованной в поддержании собственного статуса «великой державы», критически важными оказываются поиск и удержание союзников. Соседствующие с ней страны, особенно связанные общим прошлым, рассматриваются как естественные участники пророссийской коалиции, поскольку именно на них Россия может оказывать наибольшее политическое, экономическое, культурное и иное влияние. А поскольку список стран, еще не включенных в сферы интересов других мощных игроков, со временем сокращается, каждый последующий «кандидат на выход» рискует испытать на себе всю мощь стратегии принуждения. Россия, по умолчанию, требует от своих соседей делать однозначный и окончательный выбор: либо с ней, либо с Европой (а значит, потенциально против России).
Напротив, Европейский союз, по словам Бусыгиной, во-первых, не стремится к обязательному включению постсоветских государств в свою коалицию, а во-вторых, не имеет склонности принуждать партнера к подобному внешнеполитическому выбору. Его политика соседства заключается скорее в создании безопасного пространства вокруг ЕС, достигаемого за счет точечных мер воздействия на политические и экономические институты общих с Россией соседей, которые укладываются в стратегию влияния. Автор приводит здесь еще одно важное различие, касающееся реализации внешнеполитических интересов ЕС и России: если в результате влияния ЕС в соседних странах может временно повышаться нестабильность, вызванная «европеизацией», то практическим выражением политики Российской Федерации становится перманентная «управляемая нестабильность». При этом стороны, исходящие из столь разных стратегий, зачастую не способны просчитать реакцию партнера на те или иные свои действия. Примечательно, что, рассматривая два несовместимых комплекса внешнеполитических приоритетов и методов, автор указывает на то, что в краткосрочной перспективе влияние может быть бессильным перед принуждением, поскольку скорость и непредсказуемость принуждения одномоментно способны перечеркнуть достижения неспешного и обстоятельного влияния.
Во второй части книги читателю предлагается детальный анализ четырех страновых кейсов, в которых сошлись интересы России и ЕС и где каждый из полюсов силы с разной степенью успешности применял стратегии и принуждения, и влияния. Следуя мысли Бусыгиной, случаи Беларуси, Украины, Грузии и Турции в их взаимодействии с Россией и ЕС можно попытаться представить в виде диаграммы, где по осям расположены доминирующие стратегии принуждения и влияния от минимального к максимальному.
Минимальное воздействие как влияния со стороны ЕС, так и принуждения со стороны России на себе испытывает Турция. В главе, посвященной этой стране, отмечается ее непохожесть на остальные случаи из-за удачного геостратегического положения, а также военного и экономического потенциала. Автор сравнивает Турцию с Россией, отмечая довлеющее над ними имперское наследие и несоответствие амбиций обеих стран реальным средствам, которыми они располагают. Однако Турция достаточно сильна для того, чтобы ни Россия, ни ЕС не могли выстраивать отношений с ней через влияние — и тем более через подчинение. «Турецкая модель» отношений с ЕС, основанная на «европейском» выборе Турции, оказалась неустойчивой, а в условиях режима Эрдогана — практически нереализуемой. При этом, имея возможность регулировать поток беженцев из Сирии, турецкое правительство получает еще один дополнительный аргумент в любых переговорах с Европой.
Беларусь оказывается в категории с максимальным принуждением и минимальным влиянием. Диагностируя ее текущее положение, Бусыгина отмечает, что страна фактически «удушена в смертоносном объятии» Россией. Дружественные российско-белорусские отношения, по идее воплощающиеся в Союзном государстве, на практике являются имитацией «добрососедства», поскольку Беларусь постоянно живет под угрозой применения силы со стороны России. Причем президент Лукашенко располагает очень узким коридором возможностей: он вынужден лавировать между полной зависимостью от своего восточного соседа и стремлением страны к реальному суверенитету. Именно в момент перехода Беларуси к строительству по-настоящему независимого и суверенного государства у ЕС появится возможность воздействовать на нее через политику влияния, отмечает автор. Но произойдет это лишь с ослаблением жесткой российской стратегии принуждения.
Максимальное влияние и меньшее принуждение испытывает Грузия. Бусыгина говорит о «двойном» влиянии на Грузию: со стороны США (военная и гуманитарная поддержка) и ЕС (поддержка в трансформации институтов). В недавнем прошлом это влияние вместе с сознательным курсом президента Саакашвили на вестернизацию и европеизацию привели к тому, что России не удалось сохранить Грузию в своей орбите за счет принуждения, кульминацией которого стала открытая военная конфронтация. Однако европейский выбор Грузии не привел к значимым экономическим результатам, не приблизил ее к вступлению в ЕС, и сегодня новое руководство страны вновь стоит перед выбором между Западом и Россией. Автор подчеркивает особую важность этого выбора в грузинском случае, поскольку возможный провал европейского проекта здесь может стать ударом по проевропейским силам в других странах, расположившихся между Россией и ЕС, — прежде всего на Украине и в Молдове.
Наконец, влияние и принуждение в наиболее явном виде столкнулись между собой на Украине, которую исследователь называет «полем боя». Украина всегда была стратегически важным партнером России, однако подлинно партнерскими эти отношения назвать было трудно, поскольку основным средством общения с украинским руководством неизменно выступало принуждение к окончательному выбору в пользу России. Европейский союз, напротив, утверждает Бусыгина, осознал стратегическую важность Украины именно с началом кризиса 2014 года, когда положение дел в этой стране стало представлять реальную угрозу миру и стабильности в Европе. Сегодня основной задачей политики влияния на Украину выступает содействие восстановлению политических и экономических институтов, а также обеспечение государственной состоятельности как обязательного условия для любых потенциальных переговоров о будущем страны в составе единой Европы. От успеха этой стратегии во многом будет зависеть и то, насколько устойчивым окажется выбор Украины в пользу Европы, особенно на фоне применения Россией всего арсенала внешнеполитического принуждения.
В заключении Ирина Бусыгина поднимает вопрос о том, как соотношение принуждения и влияния будет структурировать отношения силы в мировой политике в будущем. Автор отмечает, что в последнее время все большую популярность приобретает именно стратегия принуждения. Ее успехи, и не в последнюю очередь в украинском кризисе, обернулись оживившимся вниманием академического и экспертного сообщества к основным постулатам реализма как подхода к международным отношениям — с традиционным для него упором на балансы сил между «великими державами» и указанием на неэффективность влияния по сравнению с принуждением. Однако сама Бусыгина относится к универсальной полезности стратегии принуждения весьма критически. Она, как отмечается в книге, может быть эффективна в кратко- и среднесрочной перспективе, но содержит в себе значительные долгосрочные риски, поскольку, во-первых, формирует устойчивый образ страны, ее применяющей, как ненадежного и непредсказуемого партнера, а во-вторых, не позволяет даже приблизительно оценить масштаб ресурсов, необходимых для ее длительной реализации и удержания принесенных ею «завоеваний». И России, сделавшей ставку на принуждение, в будущем скорее всего придется непросто.
Влияние же не приносит сиюминутных результатов, с трудом выдерживает кризисные ситуации, требует скучной и долгой работы с партнерами, которых надо побудить к реформам, — но оно же предполагает, что результат будет устойчивым в долгосрочной перспективе. Независимо от того, какой стратегии будут придерживаться ключевые акторы международных отношений в будущем, у влияния, по умолчанию, есть как минимум один принципиальный сторонник — Европейский союз. Это объединение, по самой своей структуре неспособное на устойчивое принуждение, институционально обречено и ценностно ориентировано на применение именно влияния для достижения своих внешнеполитических приоритетов. В этом, конечно, его слабость — но именно в этом и его сила.
Станислав Климович

Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных обществ
Под ред. В.С. Мартьянова, Л.Г. Фишмана
М.: РОССПЭН, 2016
Громкие политические события на Западе — голосование за выход Великобритании из Европейского союза, а Каталонии из состава Испании, победа Дональда Трампа на выборах президента США, резкое усиление праворадикальных популистов («Альтернатива для Германии», французский «Национальный фронт», итальянская «Лига Севера») — противоречат сложившимся европейским представлениям об общих ценностях и заставляют обратить внимание на нерациональность политических субъектов. Новое имя для политической риторики, которая обращается к личным эмоциям, игнорирует контраргументы и выстраивается на повторе нескольких ритуальных фраз — постправда.
В этой ситуации попытки понять политику и идеологию как рациональные феномены воспринимаются скептически, если не иронически. Несмотря на это, авторы коллективной монографии опираются на представление о том, что идеологии направлены на легитимацию допустимого насилия через обращение к осознанным общим ценностям и подкрепляются адекватными этим ценностям действиями. В случае с исследованием этики и политики современной России этот методологический ход неожиданно оказывается оправданным. Россия для авторов книги предстает одной из возможных вариаций модерного общества. Но, рассматривая ее как часть глобального модерна, им не удается обнаружить в ее символическом поле классических идеологий и соответствующих им институтов — лишь разломы ценностного и политического полей.
Во введении к монографии высказано предположение, что значимыми общими ценностями для современной России оказываются представления о «желательном настоящем и будущем… для человечества как такового» (с. 14). С этими представлениями связаны в частности забота о будущем и этика доверия. Но, если Россия, по утверждению авторов, занимает все более периферийные позиции в глобальном модерне, существуют ли отечественные идеологии, транслирующие этические идеалы общего будущего для всего человечества, или мы имеем дело только со спекуляциями? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к третьей части монографии, где исследуется апроприация в России идеологий, сформировавшихся в широко понимаемом европейском политическом процессе.
Однако прежде, чем обратиться к исследованию заявленной проблематики, авторы задаются целью вписать развитие России в глобальный контекст и посвящают первые две части монографии истории развития идеологий модерна. Включенность России в глобальные процессы скорее постулируется, чем доказывается. При этом авторы выстраивают критику либерализма и неолиберализма с позиций коммунитаризма.
Главы первых двух частей книги по содержанию частично перекрывают друг друга. Настойчиво прорабатывается аргументация тезисов об укорененности идеологий в морали, о негуманности неолиберализма, о несостоятельности постмодернистской идеи «конца идеологий». Новые форматы коллективности и их ценностные основания остаются практически без внимания. Стремление отчетливее обозначить общность теоретических позиций авторов приводит к тому, что ключевые идеи систематически повторяются и монография становится похожа на учебник. Особенно подходят для учебных целей главы 2.2, где многообразие идеологий наглядно представлено в таблицах и схемах, и 2.3, где рассмотрена идея конца идеологии и воспроизведена критика этой позиции Фредриком Джеймисоном. Из всех теоретических текстов монографии наиболее свободна от повторов и откровенно выражает общие ценности авторов глава 2.4, описывающая возможные преимущества коммунитаризма как претендента на глобальную метаидеологическую позицию.
Исследование оснований коммунитарного поворота в России следовало бы ожидать в третьей части монографии, в которой рассматриваются современные отечественные идеологии. Но пафос движения к коммунитаризму сбивается в первой же главе. Виктор Мартьянов детально рассматривает риторическое подкрепление антимодернистских шагов власти в российском политическом дискурсе. Обещая стабильность за долю ренты, антимодернистский консенсус закрепляет Россию на периферии модерна. Разговоры о внеэкономических ценностях оказываются риторической спекуляцией, так как не подкрепляются институциональными изменениями. Автор сохраняет надежду на преодоление периферийности «посредством политических и этических проектов и подходов, претендующих на большую универсальность, апеллирующих к более эгалитарному будущему всего человечества» (с. 186).
Вторая, третья и четвертая главы посвящены исследованию значимых для российских идеологий метафор. Леонид Фишман разоблачает метафору «духовные скрепы», рассматривая ее как попытку властей создать ценностное основание для капиталистического развития в условиях сырьевого капитализма. Автор показывает, что власти не удается расшифровывать антикапиталистический посыл формулы «духовные скрепы» через гражданские добродетели, таким образом задача формирования социального капитала остается нерешенной. Использование метафоры неофеодализма в описании российских реалий исследует Ярослав Старцев. Автор предлагает открытый перечень тем, для исследования которых оптика неофеодализма оказывается вполне продуктивна. Признавая ее высокий методологический потенциал, автор ограничивается примерами отдельных явлений, которые приобретают новое смысловое звучание, будучи осознаны как неофеодальные.
Метафора «советское прошлое», напротив, не применима как методологический инструмент, что стремится доказать Михаил Ильченко. Однако во властной риторике «советское прошлое» работает продуктивно: позволяет легитимизировать власть и заполнять пустующее ценностно-идеологическое поле через коллективные эмоции. Проведенное автором исследование высказываний президентов России и символической организации современных российских государственных праздников позволяет сделать шаг от анализа политических дискурсов к анализу коллективного бессознательного.
В пятой главе Ирина Фан поддерживает идею о том, что недостаток рефлексии о собственном прошлом не дает российскому обществу вырваться из ловушки ресурсного государства. Для восполнения этого пробела предложен анализ политической культуры (в рамках концепции внутренней колонизации Александра Эткинда). Автор концентрирует внимание на отношениях «колонизаторов» с «туземцами» и на способах внедрения националистических и милитаристских идей в массовое сознание.
Риторика угроз и насильственных изменений исследуется в следующей главе с точки зрения их адекватности глобальному контексту. Виктор Мартьянов противопоставляет политике жесткой силы (инструмент военно-экономического давления) мягкую гегемонию. Но готовность российской элиты сделать шаг к открытости и научиться использовать мягкую силу для продвижения интересов государства в глобальной повестке оценивается автором довольно скептически.
В седьмой главе Константин Киселев обращается к пессимистическому восприятию российской повседневности. Автор доказывает, что в обыденной российской жизни время дано человеку как бесконечное и беспросветное, а пространство — как бедное и неустроенное. Хотя устоявшаяся модернистская логика обычно преобразует мрачные ожидания в точки роста, в российских условиях пессимизм охватывает все мыслимое пространство и все обозримое будущее, тем самым перекрывая возможности модернизации.
Попытка вырваться из пессимизма рассматривается Леонидом Фишманом на примере фантастической литературы. Автор раскрывает три способа, с помощью которых политическая фантастика трех постсоветских десятилетий откликается на идеологические конструкты: реваншизм-ревизионизм (в текстах, которые условно можно объединить как утопии), гуманизм (в антиутопиях), социальный конструктивизм («попаданцы» в историях о современниках, попавших в прошлое). Вопрос, как будут строиться идеологии в реальном, а не в вымышленных мирах, переносится автором в следующую главу.
Мифологические и реакционные представления о желаемом будущем обнаруживаются не только в фантастической литературе. Легитимация допустимого насилия проводится властью с помощью «охранительной логики», которая в свою очередь требует обращения к идее национализма. Постсоветские варианты этнонационализма критикуются автором как неэффективные идеологии, которые не способны ни объединять ради общих ценностей, ни выигрывать в борьбе с другими этнонационализмами, например украинским. При этом советская версия «националистического интернационализма» рассматривается здесь как возможный источник новой идеологии. Остается открытым вопрос, будет ли использован этот сильный, но скомпрометированный источник.
Подводя итоги исследованиям идеологических дискурсов в современной России, редактор монографии Леонид Фишман прослеживает ценностные трансформации в российском обществе на примере изменения символических посылов Дня победы. Победа как архетип предполагает противостояние, в котором ее ныне действующий наследник одержал верх над другими субъектами и идеями. То, что победы постсоветской России не связаны с августом 1991 года (победой над путчистами), октябрем 1993-го (расстрелом парламента), 12 июня 1990-го (Днем независимости) или 12 декабря 1993-го (днем Конституции), позволяет автору заподозрить политические элиты в бессилии при формировании новой символической политики и политики памяти.
Представленные в третьей части монографии десять исследований современных российских идеологий оказываются преимущественно исследованиями симуляций. В отличие от пластичного либерального консенсуса, в ядре которого можно выявить устойчивые базовые ценности, антимодернистские дискурсы оказываются фрагментарными и негативными. Даже если принять теорию об особом пути России, ни ее националистическое обоснование, ни идея реставрации советского не коррелируют с реальными инфраструктурными изменениями и в этом смысле не являются полноценными идеологиями. Представленные исследования парадоксов властной риторики очерчивают контуры дискурсивных ловушек, препятствующих модернизации. Результаты этой сложной коллективной работы в перспективе позволяют сделать еще один шаг — шаг к изучению механизмов, обеспечивающих некритическое отношение к политическим решениям или создающих видимость «общности» в понимании тех или иных ценностей. В этом смысле третья часть монографии будет полезна исследователям, изучающим иррациональные механизмы современной политики.
В целом монография носит скорее теоретический характер. Редкие главы обходятся без длинного экскурса в историю понятий. Для тех, кто только знакомится с теорией идеологий и критикой неолиберализма, это источник концентрированной информации, отсылающий к фундаментальным работам Иммануила Валлерстайна, Фредрика Джеймисона, Дэвида Харви, Люка Болтански, Эв Кьяпелло и других социальных и политических теоретиков. Следуя логике критической теории, аналитический разбор устоявшегося порядка необходимо продолжить призывом к созданию порядка нового. Правда, предлагаемый авторским коллективом коммунитарный поворот и выход за рамки неолиберальной логики позднего модерна описывается только на теоретическом уровне как возможный, но необязательный ответ раздробленных российских сообществ на навязываемый властью антимодернистский консенсус.
Елена Кочухова

Опыт свободной жизни. Юрий Сенокосов, Елена Немировская и Московская школа гражданского просвещения
Андрей Колесников
Киров: О-Краткое, 2017. — 192 с. — 1500 экз.
Андрей Колесников (нужно сразу уточнить — не тот Колесников, который из «Коммерсанта», а тот, который из Московского Центра Карнеги) написал нужную книгу и в нужное время. Нужную — чтобы поддержать большой просветительский проект, которым была и остается Московская школа гражданского просвещения (до вынужденной перерегистрации — Московская школа политических исследований, МШПИ), или просто Школа, которой в 2018 году исполняется 25 лет. И вышла она в то время, когда репрессивное законодательство сделало невозможной работу Школы и многих других гуманитарных НКО в России.
Книга Колесникова — это не только биография Школы и людей, создавших ее; она сама по себе просветительский проект. Во-первых, книга сразу после выхода стала «историей сего дня», историческим документом, повествующим о рождении Школы в начале 1990-х, ее взлете и расцвете, периоде стабильной популярности в «нулевые» и далее — о жизни в «нашем тупиковом времени». Во-вторых, она повествует о людях, несущих на своих плечах — нет, не бремя, а миссию — гражданского просвещения: это основатели Школы, супруги Елена Немировская и Юрий Сенокосов, это выдающиеся эксперты Школы, а также ее сотрудники. Ценность этого документа со временем будет возрастать: будущий историк сможет увидеть, через какие тернии приходилось продираться российской демократии, — если, конечно, ей суждено будет выжить.
Колесников, авторитетный публицист и аналитик, в книге выступает в первую очередь как биограф Школы: чувствуется, как он сдерживает свой публицистический запал, который местами все же прорывается, например там, где речь идет об отношении властей к Школе. В самом деле, к десятилетию Школы (2003) президент Путин прислал поздравление, где назвал МШПИ «активно действующим институтом гражданского общества». В поздравлении также говорилось:
«Школа сегодня — это просветительский объединяющий центр, где отстаиваются ценности демократии и общественного служения, воспитывается уважение к закону, моделируются инновационные решения».
Но уже через десять лет Школа будет вытеснена с поля гуманитарного просвещения в России и перенесет свои знаменитые семинары за рубеж. Автор напоминает, что МШПИ была первой организацией, куда пришла с проверкой прокуратура во исполнение новоиспеченного закона об иностранных агентах. Правозащитник Арсений Рогинский объяснил почему: потому что «главный фронт для власти — это головы людей, интеллект, мировоззрение» (с. 185). Демократия, по Сенокосову, это пустое пространство, заполнить которое мы можем только сами. Поэтому поражение демократии в России Немировская считает и своим поражением: «Почему так быстро все изменилось? Это наше поражение, мы не держали те точки, которые должны были держать. И это произошло потому, что мы мало знали» (с. 158). Отсюда — необходимость гражданского просвещения.
Впрочем, как пишет Колесников, «даже если эта Школа физически исчезнет, она останется — в том слое культуры, который не дает стране осесть, как дому, израненному перепланировками, и развалиться от отсутствия связующей среды гражданского общества» (с. 9). В этом смысле Школа, конечно же, генератор кругов, которые расходятся по воде: люди, которые в какой-то момент жизни были вовлечены в ее просветительское поле, долго испытывают на себе его воздействие — может быть, это навсегда.
Школа, как неоднократно подчеркивается в книге, — проект европейский, поэтому она обладала европейской же открытостью, что было одной из принципиальных ее основ. Эксперты Школы представляли широкий политический спектр — от демократического до консервативного, — но среди них никогда не было радикалов, в этом смысле выбор экспертов был взвешенным. Школа гостеприимно приглашала на свои семинары самых разных слушателей, в том числе из условно антидемократического стана, чье присутствие лично мне казалось неуместным. Я был свидетелем разговора, в котором один молодой человек, член движения «Наши», на полном серьезе защищал необходимость коррупции, потому что она якобы позволяет быстро и эффективно улаживать вопросы. Другой слушатель написал после семинара в Facebook, что оппозицию надо уничтожать. А одна известная выпускница МШПИ впоследствии стала соавтором закона об иностранных агентах, из-за которого Школе пришлось свернуть работу в России. В каком-то смысле Школа стала жертвой собственного демократизма — но иной она быть не могла: «Она должна была быть принципиально открытой и — сразу! — интернационализированной. Потому что просвещение едва ли может быть узконациональным» (с. 86). Гражданское просвещение — это возможность, а дальше многое зависит от того, как далеко простирается воображение. «Власть — это воображение», — было написано на лозунгах во времена студенческих волнений во Франции в 1968 году.
Воображения потребует и чтение книги Колесникова. У нее необычная, с неочевидной логикой структура, представляющая собой, пожалуй, переплетение судеб и идей. Само строительство Школы представляло собой плетение сети человеческих связей, которая со временем стала проявлять синергетические свойства саморазвития, что не умаляет заслуг основателей и небольшого штата преданных Школе менеджеров. В книгу отдельными главами вошли письмо Сенокосова автору о гражданине и гражданском просвещении и его же выступление на берлинском форуме «В поисках утраченного универсализма». Биографии основателей Школы сплетаются с жизнями тех, кто в книге назван «людьми-ключами», настолько сильно было их влияние на Сенокосова и Немировскую. Каждый из них внес свой вклад в их переживание свободы. Главы о людях-ключах связывают книгу воедино. Эти люди — переводчица Юлия Добровольская, писатель Владимир Кормер, священник Александр Мень, философ Мераб Мамардашвили, а также ученые, политики, эксперты, состоящие в «избирательном сродстве» со Школой.
Как верно подметил автор, у Немировской и Сенокосова очень разные харизмы: «по-своему властная Лены и обволакивающая Юры». Любопытно, что Немировскую автор на протяжении всей книги называет Леной (так же к ней обращаются на семинарах эксперты и за глаза называют «семинаристы»), а Сенокосова в основном — Юрий Петрович или Ю.П. Несмотря на разницу характеров, оба с юных лет по личному выбору осуществляли восхождение к свободе в несвободные времена. Но если «времена не выбирают», то человеческую среду — вполне.
Вот эта среда была содержательной у обоих, что на определенном этапе и свело их вместе. Оба занимались расширением пространства личной свободы, преодолевали стремление быть, как все. Немировская — великий коммуникатор, способный обаять, наверное, любого, даже самого занятого лектора, она человек интеллектуально щедрый: «Что-то поняла — хочу поделиться». Из этой щедрости родилась Школа. Но она также родилась и из книг, из обширной издательской деятельности, которой увлеченно занялся Сенокосов, когда это стало возможным: он возвращал в научный оборот запрещенных в СССР мыслителей; позже, руководя издательской программой Школы, знакомил читателя с современной западной мыслью — публиковал важные работы политологов, социологов, экономистов, историков и философов.
«Опыт свободной жизни» — удачное название, отражающее суть Школы и ее основателей. Московские интеллектуалы Немировская и Сенокосов и во времена СССР жили так, будто не было советской власти, пишет Колесников. С одной стороны, да, жили так, как будто ее не было, но, с другой стороны, жили внутри нее, искали отдушины в общении с умными людьми, искали и находили интеллектуальные ниши, где воздействие власти могло бы нанести минимальный ущерб их интересам и личностям. Потому что были и домашние обыски, и юношеская фронда у Ю.П. прорывалась, от которой Немировской приходилось его удерживать. Но все же обоим за годы застоя удалось накопить творческую энергию, которую они начали отдавать равномерным потоком в конце 1980-х, в 1990-е, при создании Школы, и позднее — в годы ее зрелого существования. Это книга о свободе в ее толковании, предложенном Мерабом Мамардашвили и предполагающем «не возможность выбора, а дисциплину ума». Недаром в письме автору Ю.П. приводит парадоксальные слова своего друга Мераба: «Свобода — это феномен, который имеет место там, где нет никакого выбора. А есть нечто, что в себе самом содержит необходимость» (с. 91). Жизнь и работа Немировской и Сенокосова могут быть иллюстрацией этого определения свободы.
В книге приводится еще одна важная мысль Мамардашвили, которая стала для основателей Школы путеводной. «Жизнь есть усилие во времени», — считал философ, это — постоянное усилие стать человеком, причем усилие индивидуальное. Московская школа гражданского просвещения — это и процесс, и результат этого самого усилия во времени, прикладываемого многими людьми, но вектор этого усилия был все же задан Сенокосовым и Немировской. А что семинары Школы вытеснены из страны — скорее всего временно. Кстати, у Мамардашвили можно найти изречение и на эту тему: «истина выше нации». Этой мыслью можно спасаться в смутные времена национал-патриотического угара, захлестнувшего отечество.
В таком философском контексте резонно заключить, что Андрей Колесников приложил важное усилие во времени, усилие свободное, но у него не было выбора: эту книгу надо было написать.
Сергей Гогин
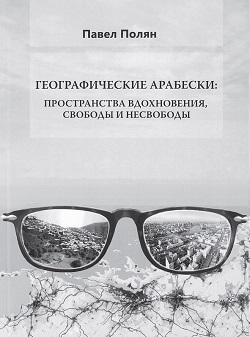
Географические арабески: пространства вдохновения, свободы и несвободы
Павел Полян
М., 2017. — 832 с. — 300 экз.
Не буду говорить об отдельных исследовательских ипостасях Павла Поляна, позволяющих собирать щедрые урожаи на различных дисциплинарных полях, — о них прекрасно написали его друзья и коллеги Жанна Зайончковская, Юрий Веденин и Ольга Глезер в статьях («Ипостаси Павла Поляна», «Перекресток Поляна и Нерлера» и «Наблюдатель»), которые составили своеобразную увертюру к книге. Буду говорить о трех составляющих, важных для его творчества в целом: вдохновении, свободе и несвободе. Тем более, что включение в книгу важного, как мне кажется, заключения, получившего название «Селфи с Левиафаном», в котором высказаны жесткие взгляды автора на отношения между географами и нынешней российской властью, вызвало бурные споры среди его друзей-географов.
Родившийся за полгода до смерти Сталина, Павел Маркович не ощутил на себе всех «прелестей» масштабного государственного антисемитизма конца 1940-х — начала 1950-х, но его отголоски как минимум один раз прозвучали в его судьбе. Речь идет о его — талантливого ученика Исаака Моисеевича Маергойза — трудоустройстве после окончания географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 1974 году. Решение абстрактной транспортной задачи — пространство личного вдохновения, — визиты в отделы кадров включенных в перечень институтов, понятно, ни к чему не привели: пространство свободы в советской системе в конце 1960-х — начале 1970-х напоминало шагреневую кожу. После Пражской весны это пространство резко сузилось для всех демократически настроенных граждан страны, а после поражения тогдашних союзников СССР в арабо-израильской войне 1973 года умами многих тогдашних кадровиков вновь овладела гнилая идея «процентного представительства». В итоге, благодаря усилиям Маергойза и других замечательных коллег-географов, Полян был принят на работу в Институт географии АН СССР, который — вот ведь как бывает! — был еще и решением той самой «транспортной задачи».
Кажется, что тогда, в середине 1970-х, географы находились в относительно безграничном пространстве творческой свободы. Связано это было, по-видимому, с тем, что от географов тогдашние власти ничего особенного не требовали. По их мнению, результаты географических исследований никоим образом не могли подорвать идеологических основ советского режима. С этой точки зрения географам могли завидовать, например историки и экономисты: после той же Пражской весны пространство свободы в их исследованиях резко сузилось. В 1970 году по указанию отдела науки ЦК КПСС был закрыт возглавляемый Михаилом Гефтером сектор методологии истории в академическом Институте истории СССР, а в 1974-м один из лидеров так называемого «нового направления» в исторической науке Павел Волобуев на посту директора Института истории АН СССР был заменен на известного ортодокса Алексея Нарочницкого. Сам же Волобуев (член-корреспондент АН СССР между прочим) стал старшим научным сотрудником в академическом Институте истории естествознания и техники. Сворачивались и «косыгинские» экономические реформы: власти осознали, что расширение экономической самостоятельности предприятий рано или поздно заставит их руководителей и коллективы поставить под сомнение сами устои, и не только экономические — всего советского режима.
В это время географы не попадали в поле зрения партийных идеологов. Разве могли результаты исследований центрально-южного экспедиционного отряда Института географии или, скажем, исследования территориальных структур, начатые Исааком Маергойзом и продолженные Павлом Поляном, обеспокоить власти? И споры в географической науке оставались делом самих географов и проходили без вмешательства в оные администраторов со стороны. Да, были, конечно, пространства несвободы: в диссертационных работах приходилось ритуально ссылаться на судьбоносные решения очередного съезда КПСС, но этот ритуал не ограничивал свободу в географических исследованиях. Ну, а несвобода общая — да, она существовала как некая оболочка всех наук и заключалась в невозможности проведения исследований по определенной тематике. Например, литературоведам нельзя было заниматься исследованиями творчества Александра Солженицына, экономистам — опровергать не имевший четкой формулировки «основной экономический закон социализма», а географам — заниматься географией этнических депортаций в СССР. Ну и, конечно, что было особенно важно для экономистов и эконом-географов, — отсутствовала полноценная статистическая база для расчетов.
Но достаточно широкая свобода в географии способствовала формированию целой когорты географов, ставших учителями и коллегами автора. Им посвящены многие страницы «портретной галереи книги», и для каждого из них Павел Полян находит теплые слова. Здесь представлены те, кого автор не застал (Вениамин Семенов-Тян-Шанский), и те, кого застал, кто, собственно, и сформировал его как ученого (Исаак Маергойз и Леонид Василевский), и его старшие коллеги (Жанна Зайончковская, Павел Ильин), и географы его поколения (Татьяна Нефедова, Виталий Белозеров).
Но и себя, в самом хорошем смысле, Павел Маркович «не забыл». Читатель книги увидит, как происходило научное становление автора в его замечательной семье, через молодые университетские годы и первые камеральные и полевые исследования в Институте географии. Затем — перестройка, снявшая запреты и раскрывшая архивы, которая дала автору новые географические и не вполне географические темы для исследований и публикаций. Расширение пространства свободы позволило Павлу Поляну в сотрудничестве с Георгием Лаппо, еще одним его учителем, заняться изучением феномена закрытых территориальных образований (ЗАТО). Проведение таких исследований — и тем более открытую публикацию их результатов — было просто невозможно представить в прежние времена. Результаты этих исследований опубликованы в разделе книги, получившем название «Монументальное: география несвободы, или Российская режимность».
К сожалению, недостаточный объем книги — нет-нет, я не оговорился, несмотря на 832 страницы, — не позволил даже пунктирно обозначить всего, что наработано автором в последние несколько десятилетий. А между тем труды эти могли бы составить еще не один том. Достаточно упомянуть сборник документов, подготовленный Поляном совместно с Николаем Поболем «Сталинские депортации. 1928—1953», который был издан в 2005 году. Или пронзительную по своему содержанию книгу «Свитки из пепла», рассказывающую о конвейере уничтожения евреев в Аушвице-Биркенау и об их судьбах, свидетельствами которых стали те самые «свитки» — записки, найденные в земле и пепле около газовых камер и крематориев, тоже впоследствии уничтоженных членами «зондеркомманд». Есть и более ранние публикации — середины 1990-х и начала 2000-х, — посвященные советским военнопленным и остарбайтерам, в том числе послевоенным судьбам тех, кто уцелел в годы войны. «Жертвы двух диктатур» — пожалуй, более точного определения для тех, кто был перемолот их жерновами, найти не удастся. Пространство несвободы сужалось в то страшное время до лагерей, гетто, расстрельных рвов… В одном из них скорее всего погиб и дед Поляна — Мендель Лондон, — отправивший свою последнюю открытку 30 июня из не оккупированного еще Полоцка. Немецкие войска вошли в этот город 15 июля…
В упомянутом выше разделе книги, посвященном монументальным аспектам географии несвободы, Павел Полян рассматривает еще один сюжет, который волнует российских националистов, а именно территориальное размещение евреев на территории Российской империи и государственное регулирование допустимого для них пространства. Мне кажется, что по сравнению с Александром Солженицыным («Двести лет вместе. 1795—1995») у автора этой книги есть то несомненное преимущество, что он не относится к себе как к носителю истины в последней инстанции, а как историк оперирует верифицируемыми фактами, не вынося окончательных приговоров участникам российско-еврейских отношений. Единственное, чего мне не хватило в этой истории, — проблемы современного российского антисемитизма, риски проникновения которого из бытовой сферы в общественную, на мой взгляд, повысились.
Критики, возможно, выскажут замечания к структуре книги: она действительно нестандартна. Но автор абсолютно прав, поскольку эта нестандартность позволила включить в рецензируемый труд поистине уникальные материалы. Я имею в виду ее пятый раздел, озаглавленный «Кочевые наброски: из полевых дневников», в который вошли записи Павла Поляна, сделанные в экспедициях и поездках 1977—1989 годов. Этот раздел важен не столько для нас, уже живших тогда, сколько для молодых, и не только географов, которые знают ту эпоху, как правило, только по устным воспоминаниям своих родителей.
В заключение книги Павел Полян отвечает на банальный вопрос о взаимоотношениях ученого с властью, анализируя плюсы и минусы взаимодействия с ней (в предельном случае — вхождения во власть) и дистанцирования от нее. Автор пошел наперекор мнению ряда своих коллег и друзей, полагавших, что подобного рода публицистике делать в научной книге нечего — это скорее материал для СМИ (фрагменты этих материалов действительно были опубликованы в «Новой газете»). Я же был и остаюсь целиком и полностью на стороне автора, возможно, еще и потому, что при происходящем в последние годы в России сужении пространства свободы отстаивание ее принципов становится императивом.
Очень важно, что автор книги построил мост между двумя поколениями географов — своих учителей и своих учеников, — которым она и посвящена. Их не так много, но каждый из них вырос в самостоятельного, оригинального исследователя. Их высказывания (Виталий Белозеров, Ольга Глезер, И. Заславский, Анна Зеленская, Лилия Карачурина и другие) о Павле Марковиче содержатся в одном из приложений. Рецензент тоже удостоен чести быть включенным в состав учеников Павла Марковича (в книгу вошла написанная почти четыре десятилетия назад наша совместная статья «Эта волшебная буква “М”: метрополитен в условиях современного города»), хотя во взрослой жизни мы работали в разных областях: я ушел в экономику, а он остался верен географии. Но для меня — и вот это важно — Павел Полян на своем примере показал, что для географа в его исследовательской деятельности не существует личного пространства несвободы: был бы интерес к тому или иному предмету и желание сказать что-то новое о нем. Так что, затевая какие-то свои факультативные проекты, всегда помню о работах автора «Географических арабесок» — не только исследователе, но и, что особенно важно сейчас, исследователе с четко артикулированной гражданской позицией.
Так что будем ждать новых книг Павла Поляна.
Сергей Смирнов

Голая статистика. Самая интересная книга о самой скучной науке
Чарльз Уилан
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 352 с. — 3000 экз.
В «Толковом словаре русского языка», составленном Сергеем Ожеговым, статистика определяется как наука «о количественных изменениях в развитии общества и народного хозяйства» и как «количественный учет массовых случаев, явлений». Одна из важнейших отраслей знания, значение которой в развитии цивилизации трудно переоценить, вместилась в две сухие строчки. Между тем Чарльз Уилан, профессор экономики и политики Чикагского университета и преподаватель Дартмутского колледжа, явно полагает, что для ее полноценного описания не хватило бы и двух толстых томов. Задача, которую американский ученый перед собой поставил, оригинальна и сложна одновременно: он решил представить наиболее известные статистические концепции в «их непосредственной связи с повседневной жизнью» (с. 15). Более того, стремясь разогнать типичные страхи, которые статистика сеет в умах далеких от нее людей, автор настаивает на том, что в компьютерную эпоху эта наука «может быть более чем доступной для понимания».
Уилан сравнивает свой предмет с оружием, которое в руках злоумышленников или людей неумелых может вызвать непредсказуемые и разрушительные последствия — как это, впрочем, бывает и с другими сферами науки и техники. Автор хотел бы приучить читателя критически подходить к числовой информации и правильно ее интерпретировать. Современный информационный поток настолько изобилует статистическими данными, что порой они кажутся слишком навязчивыми. Однако, как справедливо отмечает шведский математик и писатель Андрес Дункельс, «опираясь на статистику, легко лгать, но без статистики очень трудно выяснить истину» (с. 16). Помогая обрабатывать данные, которые есть «всего лишь исходный материал знаний», специалисты по статистике часто находят их тривиальными, но порой обобщаемые ими цифры затрагивают саму природу человеческого общества. Это вдвойне верно в мире, где постоянно и динамично генерируются нарастающие объемы данных. В результате статистика предстает самым мощным из имеющихся в нашем распоряжении инструментов для практического использования информации (с. 21).
Дальше автор методично, толково и, главное, просто поясняет несведущему, но любопытному читателю, как устроена статистическая наука. Первый, самый нижний ее пласт, составляют численные показатели, отражающие, например, информацию об учебе в школах или о спортивных достижениях. Они относятся к описательный статистике, которая для того и существует, чтобы упрощать, что всегда подразумевает некоторую потерю нюансов, подробностей и деталей. «Каждый, кто работает с числами, — поясняет автор, — должен воспринимать это как данность» (с. 23). Но далеко не на все вопросы можно ответить посредством прямого подсчета — скажем, сама по себе численность бездомных в Чикаго нам ничего не дает, — и потому на «втором этаже» познавательного процесса специалисты обращаются к одной из ключевых функций статистики: к методу экстраполяции имеющихся данных наряду с выборочными исследованиями, позволяющими, по словам автора, «получить очень близкий к точному результат». В том же разрезе применяется и такой инструмент сбора данных, как опрос общественного мнения.
Оба уровня должны соприкасаться друг с другом, и только в этом случае статистические выкладки станут убедительными. Уилан поясняет свою мысль рассуждениями о том, насколько непросто, например, измерять экономическое благосостояние американского среднего класса:
«Средний доход в Америке не равняется доходу среднего американца... Взрывообразный рост доходов 1% самых богатых людей Америки способен существенно повысить значение дохода на душу населения, ничего при этом не изменив в карманах остальных 99% американцев. Иными словами, средний доход может получаться без помощи среднего класса».
Очевидно, что при численности населения в 330 миллионов обобщить всю имеющуюся информацию о доходах просто невозможно; и вообще, чем больше данных, тем труднее выделить в них главное. В подобных ситуациях возникает спрос на упрощения, которые на основе вероятностных методов описывают сложный массив данных всего несколькими числами. Но, формируя осмысленное представление об изучаемом явлении, любое «[статистическое] упрощение порождает манипулирование» (с. 37).
Автор советует читателю уяснить фундаментальную разницу между двумя понятиями — «процентным изменением» и «изменением, выраженным в процентных пунктах». В качестве иллюстрации он ссылается на повышение с 3% до 5% ставки подоходного налога в штате Иллинойс, состоявшееся при президенте Бараке Обаме. Проблема заключается в том, что подобную новацию можно выразить двумя технически корректными способами: именно это обстоятельство позволяло демократам как инициаторам закона заявлять, что ставка налога выросла всего на два процентных пункта, а республиканцам — противникам инициативы — возмущаться увеличением налогообложения в штате на 67% (с. 53). Тем самым особенности статистики приобретали политическое звучание, что вообще типично для разработки и вычисления всевозможных показателей, индексов и рейтингов. Фактически вопреки названию рецензируемой книги статистика никогда не остается «голой»: ключевую роль в ее использовании играет интерпретация, в том числе и политическая.
Поясняя разницу между понятиями «точность» и «достоверность», имеющими центральное значение в любых дебатах о статистике, автор обращается к выразительному эпизоду, имевшему место в 1950 году. Выступая в Конгрессе, сенатор-антикоммунист Джозеф Маккарти размахивал с трибуны листком бумаги и заявлял при этом: «Я держу в руке список из 205-ти фамилий членов Коммунистической партии. Они известны госсекретарю, и тем не менее эти люди продолжают работать в государственном департаменте, более того, они формируют внешнюю политику страны!» Позже выяснилось, что конгрессмен держал в руке чистый лист, однако указание точного числа «205» сделало его откровенную ложь достоверной (с. 62). Именно так за внешней точностью порой прячут недостоверную информацию. Анализируя подобные истории, автор доказывает, что отнюдь не математические ошибки порождают «статистические преступления», ибо понимание истины возможно лишь при условии здравого суждения и честного подхода к делу:
«Глубокое знание статистики не мешает нечистым на руку людям манипулировать данными точно так же, как хорошее знание уголовного кодекса не мешает преступникам заниматься своими темными делишками» (с. 87).
Отдельная глава книги посвящена научной базе статистики, а именно основам теории вероятностей — науки «о событиях и исходах, содержащих элемент неопределенности» (с. 104). Концепция вероятности, предостерегает здесь автор, не является детерминистской: скажем, она вполне может помочь в изобличении преступных умыслов, но в случае ее неаккуратного использования за решеткой могут оказаться невиновные (с. 126). Хорошей иллюстрацией сказанного Уилан считает безответственное использование статистики в начале 2000-х при оценке рисковой стоимости (VaR) на Уолл-стрит, которое ускорило кризис 2008 года.
«Фундаментальные риски, связанные с финансовыми рынками, невозможно предсказать по аналогии с подбрасыванием монетки или слепой сравнительной дегустацией двух сортов пива. Ложное ощущение точности, встроенное в эти модели, породило ложное ощущение безопасности. […В случае с VaR] расчеты исходили из прошлых движений рынка; однако на финансовых рынках... будущее вовсе не обязательно должно быть похожим на прошлое» (с. 135).
Иначе говоря, эволюция рынка с 1980-го по 2005 год просто не могла использоваться для предсказания перемен, наступивших позже. Сходным образом вопрос решался и в других сферах, где тоже возникали риски.
«Если нам удастся разработать модель, позволяющую выявлять наркоторговцев в 80-ти случаях из 100, что случится с беднягами, которые попадут в оставшиеся 20%? Ведь для этих ни в чем неповинных людей наша модель несет вполне реальную угрозу! Какой бы соблазнительной ни была элегантность и точность вероятностных моделей, они не заменят нам здравого размышления о сути и цели выполняемых вычислений» (с. 150).
Кроме того, самый скрупулезный анализ окажется бесполезным, если в его основу положены данные, вырванные из контекста в полном согласии с принципом, хорошо известным программистам: мусор на входе — мусор на выходе (с. 153). Так, рассматривая значение статистики в судебной практике, автор указывает на частые ошибки в тех случаях, когда обвинение пренебрегает контекстом статистических доказательств под предлогом неоспоримости фактов, извлекаемых из анализа ДНК. Такой просчет он считает недопустимым, «поскольку шансы найти случайно совпадающий образец ДНК среди миллиона других образцов относительно высоки, если вы ищете его в базе данных, насчитывающей более миллиона образцов» (с. 145). Отсюда следует, что для вынесения обвинительного вердикта требуются еще и другие доказательства связи обвиняемого с преступлением. И вообще, природа выборки для статистики — вещь принципиальная. Скажем, оценивая опросы потребителей, проводимые в аэропортах, автор замечает, что выборка здесь явно некорректна, поскольку летать самолетами предпочитают люди более состоятельные, чем население в целом. Вообще же, заключает Уилан, если статистика напоминает работу следователя, то данные являются аналогом вещественных улик. «Цените надежные данные, — пишет он. — Но для начала вам понадобится их добыть, а это гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд» (с. 170).
В главе, посвященной статистическим выводам, автор отмечает, что статистика никаких утверждений с определенностью по сути выдавать не может.
«Статистический вывод говорит лишь о том, что вполне вероятно, маловероятно или даже крайне невероятно. Исследователи не могут утверждать, что новое лекарство, предназначенное для лечения заболевания сердца, действительно эффективно, даже располагая результатами его клинических испытаний» (с. 193).
Иначе говоря, специалисты по статистике изучают лишь предпосылки вероятного изменения объектов исследования в будущем.
Сегодня в большинстве исследований в качестве статистического инструмента применяется регрессионный анализ, позволяющий из сочетания влияний на объект ряда факторов («переменных») вывести величину зависимости между какой-то переменной и интересующим нас исходом, выделить влияние одной переменной, сохраняя на постоянном уровне действие других. Среди статистических инструментов он играет, пожалуй, самую важную роль в поиске закономерностей в крупных совокупностях данных, где почти невозможны «управляемые эксперименты» — как например в массиве сведений, касающихся дискриминации на работе или динамики сердечно-сосудистых заболеваний (с. 267). Исключительную важность правильного подбора переменных автор иллюстрирует ссылкой на газетный заголовок: «Игроки в гольф чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и артритом». По мнению Уилана, такая трактовка искажает подлинное положение вещей, поскольку она упускает из виду важное обстоятельство: такую переменную, как возраст, так как этой игрой в большей мере увлекаются пожилые люди. «Любое исследование, измеряющее влияние игры в гольф на состояние здоровья человека, должно надлежащим образом контролировать возраст», поскольку убивает людей отнюдь не гольф, а старость. Более того, добавляет Уилан, «при использовании возраста в регрессионном анализе в качестве управляющей переменной мы получим другой результат: для людей одного и того же возраста игра в гольф может стать профилактикой серьезных заболеваний» (с. 279).
Завершая свою книгу, Уилан настаивает на более широком привлечении статистических инструментов к решению самых острых социальных проблем, вплоть до борьбы с глобальной бедностью и международной преступностью. Нынешнее слияние цифровой информации с мощью вычислительной техники и Интернетом, по его словам, есть явление уникальное и потому многообещающее. В целом же автору удалось почти невозможное: он сумел преподнести основы науки, зачастую считающейся унылой, доступным, увлекательным, богатым образом и сделал свою книгу по-настоящему интересной.
Александр Клинский
Мой долгий путь в Москву. Воспоминания
Адольф Хампель
М.: Перо, 2017. — 186 с. — 100 экз.
Небольшая книга мемуаров немецкого греко-католического священника Адольфа Хампеля оставляет двоякое впечатление.
Перед нами история жизни одного из нескольких посредников в советско-германском религиозном диалоге, иногда рассказанная с подкупающей откровенностью, что вызывает острый интерес. Адольф Хампель — младший из восьми детей судетского немца; его семья была изгнана с родины во время этнической чистки, устроенной чехословацким правительством сразу после окончания Второй мировой войны. Хампель учился в католической семинарии, потом в знаменитом ватиканском «Руссикуме» — иезуитском колледже для русскоговорящих священников восточного обряда. Стал священником, через десять лет решил жениться и остался светским теологом, занимая профессорскую кафедру в Гиссене. Обладая незаурядным авантюрным запалом и знанием русского языка, Хампель стал посредником между немецкими католическими кругами и различными религиозными и философскими группами в тогдашнем СССР — как неофициальными, так и официальными. Достаточно сказать, что в начале перестройки его позвали читать курс по научному атеизму в Тбилисский государственный университет. Однако интересы Хампеля не ограничивались СССР: он был активным участником общества Януша Корчака, активно помогал различным религиозным общинам в бывшей Югославии в период гражданской войны 1990-х годов. Обо всех этих делах Хампель пишет весьма подробно, что позволяет лучше понять мотивацию как организаторов религиозной благотворительности, так и искренних друзей советских граждан (но не советского государства). Его вовлеченность в заботы и интриги в высоких эшелонах светской и церковной власти украсила текст несколькими любопытнейшими сюжетами — к примеру, реальной историей возвращения в Россию иконы Казанской Божьей Матери из личных покоев римского папы или краткой заметкой об отношениях скульптора Эрнста Неизвестного со своей матерью.
Вместе с тем чтение этой книги вызывает огромное сожаление. Хампель успел поучиться или поработать, вероятно, во всех основных католических институциях Западной Германии и Италии 1940—1980-х годов, занимавшихся восточно-европейской проблематикой. Он знал сотни человек, вовлеченных в эту деятельность, всю жизнь был связан с католическим центром по изучению Восточной Европы в городе Кёнигстайне — популярном среди крупных немецких бизнесменов курорте под Франкфуртом-на-Майне. И, вероятно, Адольф Хампель отлично разбирался в огромном количестве сюжетов, связанных с определением и изменением позиций западногерманских католических и политических кругов в отношении СССР и стран Восточного блока.
Однако рассказа об этом нет в книге. Назвать ее «воспоминаниями» сложно. Весьма интригующе и подробно изложенные мемуары заканчиваются примерно на моменте поступления автора в семинарию. Далее начинаются разрозненные заметки, набор никак не связанных друг с другом анекдотов, путевых записей (похоже, сделанных для приходского печатного листка и с тех пор не подвергавшихся правке). Все это намекает на устройство внутреннего мира человека-авантюриста, готового на рывок, на приключение, не останавливающегося перед обманом людей, которых он считает неправыми. Но в то же время возникает вопрос: а как подобному человеку удавалось сколько лет занимать авторитетные академические позиции, выступать консультантом влиятельных персон — от канцлера ФРГ Гельмута Коля до папы римского Иоанна Павла II? Является ли самопрезентация в качестве авантюрной и бесшабашной персоны искренней или перед нами прием, демонстрирующий лишь одну из сторон личности? И — в случае Хампеля — не скрываются ли за авантюрной натурой не только твердые убеждения, но и весьма практический ум?
Впрочем, чего можно ждать от воспоминаний воспитанника иезуитов, являвшегося, вероятно, членом ордена! (Отношения с орденом в мемуарах и немецком предисловии к тексту не прояснены.) В этом отношении книга Хампеля по структуре весьма напоминают мемуары сотрудников советской внешней разведки или некоторых журналистов-международников. Когда приходится хранить слишком много тайн, а «работа на дядю» слишком очевидна, становится опасно (или трудно) систематически и непротиворечиво изложить даже собственную биографию — остается «травить байки».
Отдельно следует сказать о качестве русского издания. Конечно, странно предъявлять претензии к книге, напечатанной малоизвестным издательством тиражом в 100 экземпляров. Но все-таки можно было сделать макет без больших белых пятен и «поехавшего» после вставки фотографий (их качество ужасно) текста. А переводчик мог бы тщательнее отнестись к упоминаемым именам и терминам. И, если опознать в «Элиаше II» грузинского патриарха Илию II еще можно, а литовского «бишопа» человек, знающий английский, определит как епископа, то заниматься выверкой прочих имен и географических названий станет только заинтересованный специалист. Издательство могло бы снабдить книгу небольшим предисловием, чтобы не только дать читателю краткую систематическую биографию мемуариста, но хотя бы указать, жив он в данный момент или нет.
Закрывая эту книгу, испытываешь сожаление, что вместо потенциально богатых и содержательных мемуаров, способных немало рассказать о событиях в нескольких общественно-значимых сферах, ты потратил время на занимательные, но на 80% бессмысленные травелоги и анекдоты, которые могут быть украшением скучного серьезного текста, но никак не его заменителем.
Николай Митрохин
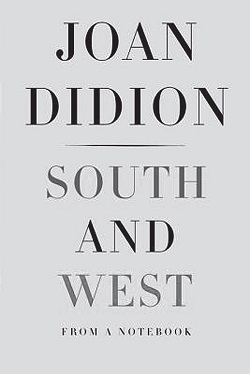
South and West: From a Notebook
Joan Didion
London: 4th Estate; HarperCollins, 2017. — 140 p.
Немалая часть обаяния «новой журналистики»[7] заключена в том парадоксе, что журналистом называет себя человек, который зачастую интересуется собой больше, чем теми, о ком он вроде бы пишет. Последних может и не быть вовсе, по крайней мере в виде конкретных людей, — и тогда автор мобилизует свои литературные способности, изобретательность и остроумие, чтобы решать вопрос: как «сделать историю», когда, собственно, истории нет? Иногда в результате подобной ситуации на читателя изливаются потоки графомании, в которых даже при самом критическом настрое невозможно отличить подлинного факта от его художественной обработки, а то и вымысла. Иногда же мифа, живущего в коллективном сознании, таланта рассказчика и фактуры оказывается достаточно, чтобы описать тот или иной феномен живее, чем это удалось бы беспристрастному наблюдателю.
Джоан Дидион (р. 1934) — репортер, чей эгоцентризм («Люди мне не очень интересны», — признается она) может доходить до мизантропии, которую непременно отмечает не одно поколение ее недоброжелателей. Она слишком холодна и сдержанна, чтобы подпасть под обаяние того человеческого, о чем она пишет, — но это-то зачастую и делает ее обаятельной. В лучших ее текстах всегда слишком много ее самой: хмурая, наблюдательная и язвительная, она пишет не столько в журналы — «The Saturday» «Evening Post», «Life» или «Esquire», — сколько в свою записную книжку:
«Нравственные принципы, в которых нас воспитали, гласят, что другие — любые другие, все другие по умолчанию — интереснее нас самих; нас учили застенчивости, которая граничит со скромностью. [...] Но наши дневники нас выдают: с каким бы старанием мы ни записывали все происходящее вокруг, общим знаменателем всегда бесстыдно просвечивает наше неукротимое “Я”» (эссе «О ведении дневника»)[8].
Известность приходит к Дидион в 1968 году со сборником «Ковыляя к Вифлеему», который не столько объясняет и «рисует портрет» Америки конца 1960-х, сколько документирует хаос, порожденный мифами, витающими в американском обществе, в котором «the centre cannot hold», — недаром эпиграфом к сборнику, давшим ему название, становится «Второе пришествие» Уильяма Батлера Йейтса. Джоан Баэз, Говард Хьюз, хиппи, коммунисты-маргиналы — все они интересны автору лишь в той степени, в которой они что-то говорят об обществе, которое ими интересуется, обществе, где все одержимы представлениями о собственном статусе и положении и способами их преодоления. Большинство тех, кого встречает Дидион, плохо представляют себе современные социальные механизмы, а потому для них становится важной связь с историей (которая их рано или поздно парализует) и местом (которое так или иначе пропитывает их своими флюидами). Эти люди сшибаются под бременем превратно понятых обещаний, которые им дает общественно-политическая риторика, и амбиций, которые взрастила в них массовая культура.
Дидион не стремится объяснить такими частными историями ни страну, ни эпоху, но для многих ее читателей эти фрагменты хорошо складываются в картину Америки; настолько хорошо, что от Дидион ждут новых «историй», которые проговорили бы важные для этого момента слова, — и летом 1970 года она едет на Юг. Едет не как репортер — без конкретного «задания» или «событий», которые нужно осветить, — но с «некоторым смутным ощущением, которое иногда на меня находило и которого я не смогла бы внятно объяснить: что на протяжении последних нескольких лет Юг, и в особенности побережье Мексиканского залива, были для Америки тем, чем некоторые до сих пор считали Калифорнию и чем Калифорния для меня не являлась: будущим, тайным источником положительной и отрицательной энергии, психическим центром» (р. 14). Явного инфоповода для ее путешествия нет, но есть характерный для этого времени и места контекст: движение чернокожих за гражданские права и de jure десегрегация, изменения в аграрной экономике южных штатов и индустриализация. Дидион все так же наблюдательна: она отмечает в своей записной книжке одичавшую морковку, растущую между рельсов; пустые полицейские машины, стоящие на улицах под палящим солнцем; сомнительного молодого человека, который ошивается у своего «Бьюика» на кладбище, где она — безуспешно — ищет могилу Фолкнера. Однако бóльшую часть времени журналистка остается внутри своей зоны комфорта: останавливается в гостиницах, ужинает по возможности в ресторанах, берет интервью у белых и относительно привилегированных: владельца радиостанции и крупного землевладельца. Со всеми остальными — посетительницами автоматизированной прачечной, официантками в кафе, семьей, разгуливающей по террариуму, — она перебрасывается дежурными репликами, и то скорее потому что их предполагают сами ситуации. За ее холодностью можно прочитать снисхождение — но нужно сказать, что и ее появление вызывает у местных жителей косые взгляды: в их захолустный городок приезжает обеспеченная женщина, говорит, что замужем — но без кольца, купается в гостиничном бассейне в бикини и закатывает глаза, узнав, во сколько закрываются местные рестораны. Джоан Дидион никогда не претендовала на лавры Хантера Томпсона, она не ввязывается в героические похождения и не рубит наотмашь своими оценками, но ее «я» всегда ощущается в ее моральной и эстетической позиции. Она пытается определить себя через Юг — и находит в этих жарких, сонливых и топких местах эстетическую и культурную противоположность себе.
Географическое место как метафора совершенно определенного умонастроения — этому посвящена отдельная часть книги «Ковыляя к Вифлеему», к этому же Дидион возвращается и в записных книжках: обросший мифами, слухами и предрассудками Юг определяет себя через них, где-то настаивая на противопоставлении себя Северу, а где-то не без гордости вставая на их защиту. Посторонний взгляд не перестает удивляться изолированности этих мест во времени и в пространстве: «Временнáя аномалия: гражданская война прошла вчера, а о 1960 годе говорят так, как будто он был триста лет назад» (р. 104). Соседний штат кажется жителям Юга другим миром, а «вся информация доходит до них через пятые руки, попутно становясь мифом» (р. 34). Плохо встроенные в стремительно меняющуюся современность, они находят опору в том, что им уже дано: в традициях и представлениях об укладе, но в первую очередь в своем происхождении и положении в обществе. И действительно: раз уж социальная мобильность в нем ограничена, то и говорить о поле, расе, классе и происхождении можно как о данности, не понижая голоса. Такая прямота не может не коробить Дидион, которая родилась и выросла в Калифорнии, но она вежливо слушает своих собеседников, записывает их многословные монологи, в которых те признают современные социальные и экономические процессы, но считают правильным не форсировать их темпов. При этом самой Джоан Дидион здесь очень мало: заметки ее, обычно склеенные воедино ею самой как главным действующим персонажем, оказываются сухими и рыхлыми, фактуры вроде бы много, но она крошится; скупой абзац авторского предисловия заканчивается фразой «Тогда мне казалось, что из этого могла бы получиться статья».
Короткие заметки ко второй не получившейся статье — про «Запад» — датируются 1976 годом; для них есть и формальный повод — суд над Патти Хёрст[9], о котором Дидион собиралась написать в «Rolling Stone». Впрочем, до суда она не доходит: из окна ее гостиницы открывается вид на дом, где Патти, сидя в своей комнате, когда-то слушала музыку — и эта нить рассуждений быстро приводит к клубку мыслей, которые не оставляют Дидион на протяжении всей писательской карьеры: о ее собственном «я», о ее представлениях о человеческом достоинстве, амбициях, успехе и — не в последнюю очередь — о том, что значит вырасти и жить в Сан-Франциско и в Калифорнии вообще. Оказывается, что, несмотря на географию и то, что из нее вытекает, общего у них с Патти Хёрст не так и много, и то, что должно было стать репортажем, быстро переходит на территорию личного эссе. С заметками о Юге оно не связано никак, но темы, которые интересуют Дидион в 1970-е, перекликаются между собой, а потому между этими заметками несложно найти параллели (которые чаще оказываются перпендикулярами). Так, там, где одни видят в прошлом внутреннюю опору, другие используют его как декор, переводя его тем самым в чисто эстетическую категорию. Одни задают идеалы портретами предков, которых нужно быть достойными, другие же — картинами прогресса и глянцевыми страницами журналов. Одни в рассуждениях о чувстве собственного достоинства полагаются в основном на социальные факты, другие же с присущими им ценностями индивидуализма — на свою способность противостоять ожиданиям и проекциям других (эссе «О самоуважении»).
В 1970-х и те и другие заметки оседают в записных книжках Дидион[10]. Почему они вышли сейчас отдельным изданием — вопрос, на который пытается ответить предисловие Натаниэля Рича, написанное — что довольно показательно — в декабре 2016 года. В порыве поствыборного замешательства и стремления понять, что именно и как произошло, мысль обратиться к заметкам сорокалетней давности, чтобы развеять туман настоящего, кажется довольно привлекательной. Сорок лет — достаточная дистанция для того, чтобы проверить гипотезу «Юг Америки как зерно, из которого вырастет мир будущего». Не в последнюю очередь велик и соблазн подать эти наброски как портрет гипотетического трамповского избирателя: не слишком образованного, ограниченного географически и информационно, одержимого идеей вернуть не определяемое конкретно былое величие стране, за переменами которой он не успевает. Плавание Дидион по тихим омутам, в которых варится консервативная повседневная муть, ускользающая от взгляда журналистов и социологов, могло бы расставить какие-то вехи, если рассматривать ее записи в первую очередь как документальное свидетельство. Однако в случае с «новой журналистикой» это было бы слишком сильным допущением. Во-первых, в этих рассказах всегда слишком много авторского «я». Во-вторых, Дидион оперирует историями-story, не стремясь вывести из них историю-history: в ее «западной» картине мира первые всегда незначительны перед лицом второй. Говоря о том, почему она пишет[11], Дидион признается, что мир фактов привлекает ее больше, чем мир идей: ее внимание слишком хорошо фокусируется на картине, звуке или запахе, чтобы доводить их до уровня абстракций. Некоторые детали обладают для нее характерным мерцанием (shimmering) — но из них вырастают «истории» и повести, а не аналитика. Из этих набросков не вышло даже «историй» — вероятно, потому их в то время и забраковали. Они говорят не столько о Юге, сколько — может быть, не всегда удачно — о Дидион на Юге; они утверждают ее собственную позицию (в первую очередь эстетическую, а не моральную), исследуют ее ощущение принадлежности к одному социальному кругу, умонастроению, месту — и отторжение, которое вызывает в ней другое. В последние годы Дидион пишет более автобиографические произведения («Год магического мышления», «Синие ночи»[12]), на фоне которых «Юг и Запад» выглядят как не самое удачное напоминание о ее деятельности как важного для той эпохи репортера. Считать этот сборник показательным срезом американского общества начала 1970-х было бы опрометчиво. Видеть в нем пророчество — сбывшееся к радости одних, злорадству других, ужасу третьих и растерянности четвертых — значило бы наделить эти 140 страниц весом, на который они не рассчитаны. Узнать из них что-то про саму Джоан Дидион — задача более выполнимая, и «Запад» настолько интроспективен, что к фактам, которые он изначально собирался изложить, он так и не переходит. «Юг» же, напротив, несмотря на изобилие деталей, набрасывает лишь самые общие штрихи к ее портрету, предугадать которые и без того несложно. В этом смысле эти два полюса являются своего рода тестом на растяжимость границ «новой журналистики» как метода: за теми свободами в обращении с языком и фактами (artistic license), которые ей дает литературность, легко забыть о необходимости выдерживать баланс между рассказываемой историей, фактурой и авторским «я».
Иван Оносов

Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством
Кей Джеймисон
М.: Альпина Паблишер, 2017. — 226 с. — 2000 экз.
Кей Джеймисон страдает биполярным расстройством с 17 лет. Ее книга «An Unquiet Mind», где она рассказывает о своем заболевании и о том, как она с этим живет, вышла в США еще в 1997 году, но на русском языке опубликована только в 2017-м. Возможно, только теперь в России созрели для этого условия: несколько лет назад в обществе началась дискуссия о психических расстройствах. Депрессия, наконец, признана серьезным заболеванием, а не блажью; благодаря знаменитостям, возглавляющим благотворительные фонды, в фокус внимания попали люди, страдающие аутизмом. «Беспокойный ум» открывает для публичного обсуждения и тему биполярного аффективного расстройства (это заболевание также называют маниакально-депрессивным психозом — МДП), потому что, как считает автор, «открытость — это именно то, что нужно, чтобы преодолеть стигматизацию больных».
Она пишет, что как эксперт и пациент считает термин «биполярный» оскорбительным: «Он невнятен и, на мой взгляд, преуменьшает серьезность заболевания». Напротив, термин «маниакально-депрессивный», по ее мнению, отражает истинную природу диагноза и «не пытается приукрасить непростую реальность». Очевидно, это замечание ускользнуло от внимания редакторов русского издания, потому что в подзаголовке книги оказался именно «оскорбительный» термин (в оригинале стоит более жесткое и конкретное «A Memoir of Moods and Madness», в буквальном переводе — «Заметки о перепадах настроения и о безумии»). Пожалуй, некорректно и определение «моя победа», потому что автор не победила своего расстройства, ибо это невозможно, но научилась его контролировать с помощью антидепрессантов и психотерапии, то есть победила скорее себя.
Джеймисон в своей книге не пытается приукрасить той самой «непростой реальности», а честно рассказывает о скачках своего настроения и подступающем безумии. Позиция рассказчика здесь уникальна: автор излагает собственные переживания, поэтому описание симптомов получилось образным и ярким, но одновременно автор смотрит на свой «мемуар» как будто со стороны, с позиции и профессионального психиатра, и человека, взявшего болезнь под контроль.
Особенность этого типа расстройства в том, что в остром периоде маниакальная фаза, характеризующаяся возбуждением, воодушевлением, даже ростом творческих возможностей, сменяется тяжелой депрессией. Первую фазу Джеймисон описывает как постепенный и увлекательный разгон от стремительных мыслей к хаосу, как путь от знакомых уровней эйфории к «пылающему безумию». Человек бурлит идеями, способен много работать без устали, спит по 4—5 часов в сутки, совершает импульсивные поступки. В частности сама Джеймисон в период мании была подвержена шопоголизму. Однажды ей пришло в голову купить одну книгу, но из книжной лавки она ушла, нагруженная двумя десятками томов: «Мой разум был убежден, что вот-вот постигнет абсолютную истину. Неудивительно, что все покупки казались мне абсолютно необходимыми» (с. 53). Она признается, что два серьезных маниакальных эпизода обошлись ей более, чем в 30 тысяч долларов: «Я скупала драгоценности, элегантную и бесполезную мебель, вызывающую одежду, которая мне не шла» (с. 79). Мании и депрессии порой оборачиваются насилием, пишет автор, что становится серьезным испытанием для близких:
«В своих внезапных психотических приступах, в разгар черных тревожных маний я разрушала то, что мне дорого, доводила до ручки людей, которых любила, а опомнившись, не могла оправиться от стыда» (с. 122).
Вторая, депрессивная, фаза — как расплата за поездку на «американских горках» мании: за чувством скуки и безразличия, потерей интереса к учебе и работе, друзьям, книгам, прогулкам, мечтам «следовали серые, бледные мысли о смерти и разложении, о том, что все в конце концов гибнет и лучше умереть сейчас, чем терпеть боль в ожидании» (с. 49). Однажды это закончилось попыткой суицида, последовавшей за полуторагодовой депрессией, которую автор описывает так:
«Страшная подавленность изо дня в день, каждую ночь, непрекращающаяся агония. Это безжалостная, неумолимая боль, не оставляющая ни единого просвета для надежды, никакого спасения от леденящих душу мыслей и чувств» (с. 117).
На начальном этапе отрицания болезни Джеймисон рассматривала ее как внешнюю силу, которая пыталась подавить ее истинное «я» и с которой надо сражаться в одиночку: «Антидепрессанты — это для слабаков, для обычных пациентов… Я продолжала верить, что со всеми проблемами должна справляться самостоятельно» (с. 62—63). Вплоть до попытки самоубийства Джеймисон воевала с лекарством: начинала принимать его, потом бросала, после чего сваливалась в очередное, более сильное обострение. Сопротивление лекарству имело причины. Во-первых, мания может быть приятной: «Отказаться от полетов разума было трудно, даже несмотря на то, что неизменно следовавшие за ними депрессии едва не стоили мне жизни». В период умеренной мании человек успевает сделать очень много, живет сверхнасыщенно. Во-вторых, есть страх потерять последнюю надежду: а вдруг лекарство не сработает? Наконец, прием препарата лития, который прописывают при МДП, подавляет когнитивную сферу: ослабляет остроту чувств, внимание и память, влияет на способность читать, понимать и запоминать прочитанное — то есть в данном случае он мешал работать.
Поэтому трудно не восхититься всем тем, чего Джеймисон добилась вопреки (но отчасти все же благодаря) своему расстройству, признав, что ее болезнь не внешняя сила, а часть ее самой. Кей Джеймисон прошла обучение клинической психологии в Калифорнийском университете, там же стала аспирантом, затем доцентом кафедры психиатрии, получила постоянную штатную должность профессора, получила лицензию на медицинскую практику и вела прием пациентов, основала при университете профильную клинику по лечению депрессий и МДП.
Если первые главы книги — биография автора и история ее отношений с собственной болезнью, то в последней главе обсуждаются сложные этические вопросы, из-за которых, вероятно, и затеяна книга. Джеймисон подчеркивает важную роль масштабной просветительской деятельности, отдает должное правозащитным группам пациентов, где только и возможны «лингвистические споры» о проблеме безумия. Она уверена, что «назрела необходимость глубоких перемен в том, как общество воспринимает психические заболевания», и мелочей здесь нет, потому что дьявол кроется в деталях, считает автор. Сам выбор слов, которые употребляют пациенты по отношению к себе, «способствует самостигматизации и бьет по самооценке», пишет она, а слов таких великое множество: «псих», «лунатик», «шизик», «с приветом» и так далее. Видимо, это тот случай, когда не стоит иронизировать над политкорректностью, которой одержимы американцы. «Очевидно, язык для обсуждения душевных расстройств и поведения больных должен быть свободен, разнообразен, умен и достаточно прям» (с. 178). Прежде, чем назвать кого-либо «неадекватным», автор предлагает задуматься о том, что «грань между человеком, которого считают чувствительным или впечатлительным, и тем, на кого ставят клеймо “душевнобольной”, едва уловима» (с. 199).
Джеймисон описывает встречу с психиатром, который прямо заявил ей, что при ее диагнозе ей не стоит иметь детей. Этот врач полагал, что она не сможет стать хорошей матерью и что лучше «не производить на свет еще одного маниакально-депрессивного бедолагу». Эта тема относится к сфере биоэтики. Недалеко то время, пишет автор, когда врачи смогут выявлять у плода гены МДП, и тогда родителям придется решать, стоит ли делать аборт. Джеймисон напоминает, что многие великие ученые, писатели, музыканты, политические и прочие лидеры имели этот тип душевного расстройства, но они стали великими именно благодаря маниакально-депрессивному заболеванию, которое стимулирует творческие способности и воображение. Автор задается вопросом: если человечество захочет избавиться от этих генов, не станет ли мир менее ярким, не потеряют ли искусство, бизнес, политика множество талантливых людей?
Еще одно измерение той же темы — близкие отношения с другими людьми, в которые вовлечены маниакально-депрессивные пациенты. Джеймисон посчастливилось встретить на своем пути умных, тонких, понимающих, терпеливых мужчин. Один из них, ее коллега Ричард Уайетт, стал ее мужем, и его невозмутимость помогает этой паре справляться с расстройством у Кей. И это действительно везение. «Никакое количество любви не способно излечить безумие и победить мрак», — считает тем не менее автор. Надеяться, что другой человек примет тебя со всеми твоими проблемами, — наивно, полагает она. Это выбор для обоих: готов ли здоровый партнер получить в «нагрузку» к любви душевное расстройство возлюбленной? Не будет ли партнер с МДП чувствовать себя бременем для другого? А если на место маниакально-депрессивного расстройства подставить какую-нибудь другую болезнь, то что победит: тяга к человеку или соображения собственного душевного комфорта?
Другая важная этическая дилемма для пациентов с МДП: стоит ли рассказывать другим людям о своем диагнозе и если да, то кому и при каких условиях? Должны ли знать об этом друзья и коллеги? Ведь реакция может быть разной: одни поймут, другие насторожатся. Заболевание влияет на настроение, работоспособность, отношения, но скрыть МДП от друзей — значит, поставить под сомнение дружбу, сделать ее поверхностной, считает автор. В профессиональной среде этот «аутинг» имеет дополнительные особенности. Джеймисон дорожит своей «мантией академической объективности», но признает, что ее научная работа несет на себе печать личного опыта и пережитых эмоций. Поэтому ее тревожит, будет ли ее субъективный взгляд на проблему душевных расстройств воспринят коллегами как взгляд специалиста или скорее как пациента.
В последней главе содержится важное признание. За тридцать лет, проведенных с депрессивно-маниакальным заболеванием, Кей Джеймисон досконально узнала о том, какие ограничения оно накладывает и какие возможности открывает. Теперь, когда ее расстройство находится под контролем, а с уменьшением дозы лития вернулась острота чувств и восстановились когнитивные способности, автор признается, что скучает «по жизни, проведенной в невероятных перепадах настроения», «по потерянной глубине и напряженности бытия».
«Мания привносит в жизнь яркость и насыщенность, моменты, которые потом хочется с удовольствием прокручивать в памяти. Они запоминаются сильнее, чем войны, чем любовь, чем детские впечатления. И поэтому я с горькой радостью осознаю, что променяла свое беспокойное, но насыщенное вчера на уравновешенное и благополучное сегодня» (с. 208).
Сергей Гогин
[1] См.: www.thetimes.co.uk/article/review-the-darkening-age-the-christian-destruction-of-the-classical-world...; www.thetablet.co.uk/books/10/11298/blame-the-christians.
[2] Среди прочих работ см., например: Barr J. A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East. New York: Simon & Schuster, 2012; Faulkner R. Lawrence of Arabia’s War: The Arabs, the British and the Remaking of the Middle East in WWI. New Haven: Yale University Press, 2016; Reynolds M. Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires 1908—1918. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; Rogan E. The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East, 1914—1920. London: Penguin Books, 2015. См. также мою рецензию на последнюю из перечисленных книг: Неприкосновенный запас. 2016. № 3(107).
[3] См., например: Исаев Л.М., Ожерельева М.В. «Арабская осень»? // Неприкосновенный запас. 2014. № 3(95). С. 29—37.
[4] McMeekin S. The Russian Origins of the First World War. Cambridge, MА: The Belknap Press of the Harvard University Press, 2011.
[5] Подробнее об этом см. мою рецензию на эту книгу: Неприкосновенный запас. 2014. № 4(96). С. 224—227.
[6] См.: Lake D.A. Authority, Coercion, and Power in International Relations. Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, September 2010. Washington, D.C. (www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/basics/papers/lake_paper.pdf).
[7] Появившийся в 1960-х годах в США подход к написанию журналистских текстов, который делал акцент на субъективной позиции автора. С ним часто связывают имена Тома Вулфа, Трумена Капоте и Хантера Томпсона.
[8] Didion J. Slouching Towards Bethlehem [1968]. New York: Flamingo; Harper Collins, 2001. P. 117.
[9] Патти (Патрисиа) Хёрст (р. 1954) — внучка американского медиамагната Уильями Рэндолфа Хёрста, ставшая известной в 1974 году. Хёрст была похищена боевиками левацкой группировки «Symbionese Liberation Army». Став заложницей, она приняла участие в нескольких акциях своих похитителей, в частности в ограблении банка, приведшем к убийству. После ареста Хёрст уверяла, что была вынуждена присоединиться к «Symbionese Liberation Army» из-за угрозы жизни и психологического давления. В 1976 году суд приговорил Патти Хёрст к семи годам заключения; позже президент США Джимми Картер сократил этот срок до 22 месяцев; окончательно освободил ее от уголовного преследования Билл Клинтон.
[10] Заметки о Западе были опубликованы в 2016 году в «The New York Review of Books» (www.nybooks.com/articles/2016/05/26/california-notes).
[11] «Почему я пишу» (1976) (www.nytimes.com/1976/12/05/archives/why-i-write-why-i-write.html).
[12] Didion J. The Year of Magical Thinking. New York: Knopf; Random House, 2005; Idem. Blue Nights. New York: Knopf; Random House, 2011; см. также рус. перев.: Дидион Дж. Синие ночи. М.: Corpus; ACT, 2013.
