Евгений Кучинов
Подлинная анархия: (как) использовать вирус против выживания
[стр. 277—286 бумажной версии номера]
Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista
Giorgio Agamben Vicenza: Neri Pozza Editore, 2017. – 139 p.
L’uso dei corpi (Homo sacer, IV, 2)
Giorgio Agamben Vicenza: Neri Pozza Editore, 2014. – 368 p.
Этот текст задумывался осенью прошлого года как пунктирный абрис двух книг Джорджо Агамбена, вышедших на итальянском языке уже довольно давно, – «Использование тел» (2014) и «Творение и анархия» (2017). Уже давно – так по крайней мере кажется сегодня, в условиях кризиса, когда количество инфицированных COVID-19 приближается к 2,5 миллионов человек, а число умерших перевалило за полторы сотни тысяч, когда многие страны вводят все более решительные меры «самоизоляции» и «социального дистанцирования», а среди интеллектуалов только ленивый не потренировал своего красноречия и остроты мысли в ответе на вопрос: «Каким будет мир после?». В это время вокруг самого Агамбена закрутился один из наиболее амплитудных водоворотов философского (и не только) обсуждения коронавируса, после того как 26 февраля он опубликовал короткую заметку «Изобретение эпидемии», где чрезвычайные меры по борьбе с болезнью с ходу были объявлены «невоздержанно суетливыми, иррациональными и совершенно ничем не мотивированными» [1]. Последовавшая полемика, начавшись с язвительного ответа Жана-Люка Нанси, продолжается до сих пор, и в большинстве случаев позиция Агамбена подвергается жесткой критике – с разных концов политического спектра. Справа его обвиняют в «панике» и требовании «пустить в страну [в Италию] как можно больше мигрантов и ЛГБТ+ активистов, чтобы предотвратить непоправимое» (Александр Дугин, запись «ВКонтакте»), а слева – указывают на возможность «демократической и даже коммунистической биополитики» (Панайотис Сотирис) [2]. Критики сходятся в тезисе о безальтернативности и (в целом) эффективности существующих мер по борьбе с эпидемией (которая, конечно, не является «предполагаемой» – una supposta epidemia, – как считал Агамбен), различия же касаются того, как сделать эффективное еще эффективнее (объявить чрезвычайное положение, ввести войска или сделать акцент на взаимопомощи и демократизме?). Отметим еще одну точку схождения: это уже упомянутый вопрос: «Каким будет мир после?». В нем зашита характерная презумпция, состоящая в том, что эпидемия (когда-нибудь) закончится или, более широко, что мир будет после. Если опираться на нее, то нет смысла ждать, выражаясь словами Анри Бергсона, «пока сахар растворится», можно начать осмыслять ситуацию «после» уже сейчас, подсчитывая прибыли и убытки, определяя пострадавших и выгодополучателей. В этом пункте Агамбен расходится со своими критиками по существу: он скорее сосредоточен на вопросе о том, что происходит прямо сейчас. Как происходящее разглядеть? «Страх – плохой советчик», – пишет он в третьей заметке о складывающейся ситуации, в «Разъяснениях» [3]. В шестой же ноте, озаглавленной как «Вопрос», лейтмотивом является выражение «in nome di un rischio», «во имя риска», опять же намекающее на роль неясного страха и указывающее на то, что все, что делается для борьбы с эпидемией, направлено на минимизацию рисков заражения [4]. Не трудно заметить, что вопрос о происходящем имплицитно содержит в себе еще один: что мы можем, избавившись от страха, рискнуть сделать прямо сейчас?
Отчасти это вопросы о месте философа и – шире – критической теории в складывающемся вирусном контексте. И, может быть, именно здесь Агамбен наиболее уязвим. 1 апреля на своей странице в Facebook Игорь Чубаров отметил, что, отвечая на критику, Агамбен «лишь защищает свою signatura rerum (Теорию) в целом – дело всей своей жизни, а не отвечает на вполне здравые контраргументы коллег». Это тяжкое обвинение. В сущности речь идет о том, что Агамбену безразличны жизни конкретных индивидов, то есть его теория буквально не различает их – тех, кто прямо сейчас хотел бы (и мог бы) жить, но умирает от новой заразы. Этим индивидам, то есть каждому из нас, нужна, полагается, этика, в которой каждая жизнь рассматривается как драгоценность, каждая жизнь заслуживает «спасения», понимаемого как сохранение [5]. На фоне подобных обвинений то, что Агамбен пишет в «Вопросе» («мученики учат нас, что нужно жертвовать жизнью, а не верой»), кажется, не только подтверждает вердикт, но и служит отягчающим обстоятельством.
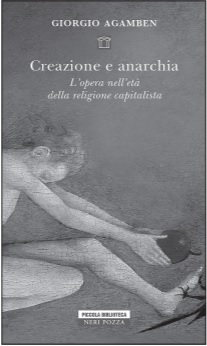

Но, когда упоминается теория Агамбена в целом, когда из этой теории (кем угодно, кроме самого Агамбена) извлекаются «позитивные следствия» – что имеется в виду? При ответе на этот вопрос, как правило, в ход идут собирательные поэтические формулы, в которых обязательными элементами являются «исключение» и «концлагерь», и именно через них мысль создателя проекта Homo Sacer выражается «во всей полноте». При этом упускается из виду, что проект этот оставлен Агамбеном [6] и что «Использование тел» (HS, IV, 2) – последняя глава, венчающая двадцатилетний труд настолько же, насколько развенчивает его.
Можно сказать, что в текущую дискуссию о вирусе «Использование тел» включено в качестве исключенного: эта книга не упоминается (и поэтому кажется написанной очень давно, до первых томов Homo Sacer, – или же, напротив, написанной уже после прочтения), но как будто при этом только о ней и намеченных в ней ходах идет речь. Вменяя Агамбену пренебрежение частной жизнью конкретного индивида, использование темы вируса для подтверждения своей теории, а также желание попросту разрушить кордоны вынужденной самоизоляции, совершенно игнорируют то, что Агамбен сказал о частной жизни, использовании и разрушении. Итак, с чем Агамбен оставил Homo Sacer? И как это оставленное продолжает себя в его нынешних работах?
В конце, пишет Агамбен, не стоит ждать заключения, в котором pars destruens (критическая часть) сменяется pars construens (конструктивной частью). Напротив, не только сам порядок такого следования, но и больше – само разделение разрушения и творчества – должно быть поставлено под вопрос («L’uso dei corpi». P. 9). Такой задел мог бы составить рифму анархической формуле Михаила Бакунина – «радость разрушения есть творческая радость», если бы в итоге Агамбен не заходил дальше и не выдвигал тезис, может быть, не более радикальный, но более провокационный: разрушения (одного начала) недостаточно (для появления нового начала). Сам принцип разрушения должен быть пересмотрен: вопрос не в том что, а в том, как разрушать (и как творить). Как разрушать, чтобы не происходило разделения? – одна из вариаций такого вопроса. Как, например, прожить свою частную жизнь, чтобы она не была отделена от конкретного существа, но и не стала «подпольем», украденным лисенком, которого мы носим под плащом и который – как в случае со спартанским мальчиком, описанным Плутархом, – прогрызает живот своему владельцу? [7] Или: как использовать тело (а также технический инструмент, язык, мир или же – нужно добавить сегодня – вирус), чтобы это не стало отношением собственности, но и не поглотило нас? Согласно Агамбену, наличная жизнь дана нам в неразрешимом апорийном модусе выживания (la sopravvivenza), в котором жизнь отделена от своей формы («L’uso dei corpi». P. 16). Разрушение этой формы не является противоположностью выживания (то есть вы- или у-миранием), но предполагает что-то вроде доведения формы до крайности, до формы-жизни (forma-di-vita), в которой форма живет, а жизнь формируется, покрывая разделение формы и жизни. В качестве конкретной драматургии подобного разрушения Агамбен приводит пример жизни Ги Дебора, колебавшейся между универсалиями политики и прожиганием времени, запечатленном в названии фильма «Мы кружим в ночи, и нас пожирает пламя» (1978). Этот пример становится поверхностью, на которой формулируются ключевые вопросы «Использования тел»: как вывести политику из немоты, а жизнь – из «идиотизма» частного подполья? Как помыслить существование в форме-жизни, то есть существование как жизнь?
Эти вопросы исследуют разлом, который маркирует их в качестве онтологической проблемы или же проблемы антропогенеза. Вопреки современным спекулятивным поветриям Агамбен мыслит онтологию не как совокупность положений, уложенных в определенную доктрину (будь она сколь угодно реалистичной), но как открытие и определение пространства действия и мысли (речи), как изначальное историческое разделение и соединение языка и мира. Эту изначальность нужно понимать не хронологически, как событие прошлого, а процессуально, как антропогенез, который, разворачиваясь из исторического априори, воспроизводится в повторении («L’uso dei corpi». P. 151). К слову, в «Использовании тел» достаточно моментов, которые позволяют переосмыслить антропогенез вне антропоцентрического контекста, как возникновение самой жизни (в качестве одного из экстремумов здесь отмечается требование помыслить бытие как жизнь). Однако Агамбен не спешит погружаться в нечеловеческие онтологии, так как после Канта, осуществившего что-то вроде отделения (мышления от бытия) без разрушения, онтология возможна лишь как археология. И, хотя случаются смещения исторического априори (смещение от знания к языку, осуществленное Ницше, Беньямином и Фуко, от языка – назад, к бытию по ту сторону его данности мышлению, намечающееся сегодня), Агамбен обнаруживает, что все они блокируются изначальной структурой онтологического разделения бытия и действия. Археология, которую он предлагает и осуществляет, направлена не на раскопки того, что было вначале, а на подкоп онтологической проблематики как таковой (подрыв и разрушение самого онтологического разделения).
Ключевым подкопом становится археология понятия «использование», обнаруженного в «Политике» (1254b 18) Аристотеля в составе синтагмы «τοῦ σώματος χρῆσις», использование тела, описывающей существо раба. Вопреки общепринятому представлению о рабстве, согласно которому раб – это орудие производства, Агамбен находит в теле раба аналог греческого κτῆμα, инструмента или, точнее, утвари, которая, подобно кровати или одежде, не производит ничего, кроме самого использования. Более того, принадлежа буквально телу господина, раб очерчивает зону неразличимости между собственным телом и телом другого, а также неразличимости между искусственным инструментом и живым телом. Использование (рабом своего) тела не является, таким образом, ни производством (чего-то отличающегося от тела), ни практикой (направленной на какую-то цель) и не может быть соотнесено с тем, что сегодня называется трудом. Задача, которая накладывается на использование тела извне (со стороны господина), состоит в освобождении от необходимости и обеспечении досуга (не в последнюю очередь сексуального), позволяющего состояться политическому существу – человеку. Такова антропогенная роль раба («L’uso dei corpi». P. 46). Его тело является тем инструментом, изобретение и использование которого приводит к замене отношений человек (который еще не человек) – природа (которая еще не природа) на отношения человек – «человек» (раб как особое человеческое существо, определенное использованием тела).
В отношении использования, в хрезисе, Агамбен находит структуру медиального залога, то есть такого (языкового) отношения, в котором нет различия между субъектом и объектом, между агентом и пациентом, между активностью и пассивностью («L’uso dei corpi». P. 51–53). Хрезис тела подобен танцу, в котором танцор не отличается от танцуемого. Также, что наиболее существенно для Агамбена, хрезис противоположен отношению собственности: танец не принадлежит танцору (и не может быть от него отделен), танцор не принадлежит танцу (и не может с ним полностью совпасть). Неприсваиваемое (l'inappropriabile) [8] составляет сердцевину хрезиса – и слепое пятно западной онтологии. Раб же представляет собой фигуру, постоянно вытесняемую в качестве формы-жизни, но возвращающуюся в патологической (разделенной) форме раба как товара (поздняя античность), инструмента (в Средневековье) и рабочего (в Новое время).
Размышления Агамбена о технике является одним из наиболее плодотворных мест в «Использовании тел». Опираясь на богословие Фомы Аквинского, он радикализирует концепт инструмента, который традиционно отклонялся в качестве парадигмы исследования технического объекта. У Фомы инструмент действует двояко: с одной стороны, благодаря действию принципиальной причины, которое накладывается на него извне ремесленником, с другой, – автономно, в качестве инструментальной причины, не зависящей от действий мастера. Для этой автономии характерна особая слепота: топор не знает, что с его помощью делает мастер. Эта автономия достигает предела в фигуре священнослужителя – одушевленного инструмента принципиальных действий Бога в таинствах. Именно здесь происходит зарождение современной техники: аналогично тому, как поздняя античность произвела юридическое схватывание формы-жизни раба, разделив ее на использование и утилитарность, поздняя схоластика схватывает и блокирует инструментальность в служебном «послушании» («obbedienziale») («L’uso dei corpi». P. 109). В богослужении, а не в алхимии и ренессансной магии берут свое начало «послушность» и «эффективность» современной техники.
Итак, раб – двойной порог (una duplice soglia), пересекая который животная жизнь переходит в человеческую точно так же, как (человеческая жизнь переходит) в неорганическую (орудие), и наоборот («L’uso dei corpi». P. 112). В силу онтологического разделения между активностью и пассивностью этот порог, однако, представляет собой линию преткновения, блок, который поляризует отношение использования в двух формах «выживания»: (раба как) товара и инструмента (как покладистой послушности). Как подкопать этот порог?
Агамбен приводит пример Мишеля Фуко и его интереса к садомазохистским практикам, в которых посредством непредопределенности и постоянной смены телами позиций господина и раба происходит разжижение (fluidificazione) властных отношений, недопущение их институциализации («L’uso dei corpi». P. 146). Симметрично можно бы было продумать что-то наподобие технического садомазохизма, в котором господство человека над машиной-рабом сменяется обратным отношением (разыгрываемым сегодня, например, в кинематографическом воображении, в сюжете о восстании машин). Однако Агамбен ищет чего-то более радикального, того, что он называет Неуправляемым (un Ingovernabile), находящимся по ту сторону отношений господства («L’uso dei corpi». P. 148).
В онтологическом подкопе Неуправляемое высвобождается в модальной онтологии, в которой отношения между сущностью и существованием разыгрываются в медиальном залоге требования (esigenza). Агамбен берет это понятие из переписки Лейбница и де Босса, но размещает его в предшествовании (в археологическом смысле) разделению сущности и существования. Пребывая в медиальном залоге, в котором выражение «сущность – требование существования» указывает на взаимность и сообщничество, на то, что сущность и существование затребованы друг другом; при этом требование, подчеркивает Агамбен, не обязывает. Требование – это чистое высказывание языка, который ничем не обязан миру (и наоборот: бытие – это необязательная потребность в языке) («L’uso dei corpi». P. 219–220). Пример с танцем, который приводился выше, укладывается в концепцию медиального ритма: сущность и существование кружат в ритме общего требования.
Понятие модуса представляет собой порог неразличимости между этикой и онтологией (этос = модус жизни индивидуального существа) («L’uso dei corpi». P. 226), и именно на этом пороге обнаруживается точка схода всего проекта Homo Sacer. В эпилоге к «Использованию тел» Агамбен именует эту точку «подлинной анархией» (la vera anarchia), заимствуя данную синтагму из высказывания одного из сановников в фильме «Сало» Пьера Паоло Пазолини: «Единственная подлинная анархия – это анархия власти» («L’uso dei corpi». P. 247). Это примечательный пункт, так как, с одной стороны, Агамбен изначально противопоставлял свой проект «критике государства с позиций анархизма» [9], с другой стороны, в «Царстве и Славе» он предполагает возможность мыслить Неуправляемое «за пределами анархии и управления» [10], повторяя ту же мысль и в середине «Использования тел». Здесь же, в финале Homo Sacer, Агамбен возвращает ритмы модальной онтологии, которые были извлечены благодаря деактивации онтологического разделения назад, в политику, в политическое разделение управления и анархии. Если в «Царстве и Славе» анархия описывается как то, что «управление должно пред-положить и присвоить в качестве собственного истока» [11], то здесь ставится задача высвобождения анархии из-под управления, задача мыслить анархию как Неуправляемое. В отличие от Прудона и Бакунина, которые всего лишь «сместили исток» («spostare l'origine»), сменив принцип власти разумным принципом («L’uso dei corpi». P. 248), Агамбен предлагает не отрицание и разрушение начала, но его упразднение (destituzione), которое уже не может мыслиться как фигура простого различия: упразднение деактивирует само разделение между различием и тождеством и открывает начало для нового использования. (Отметим, что неразличимость, о которой пишет Агамбен, коррелятивна чистому различию Жиля Делёза.) Как в «Царстве и Славе», так в «Использовании тел» и последующих работах в этом пункте собеседником Агамбена становится Райнер Шюрман, у которого, вероятно, заимствуется сам концепт упразднения [12]. Онтологическая анархия Шюрмана корректируется, однако, в важном пункте. Если «принцип анархии» у него – это обозначение исторического предела, за которым метафизическая аппаратура «начала» (тождества) распадается, уступая место аппарату безначалия (различия), то у Агамбена мы находим идею активной деактивации метафизики [13]. Он подчеркивает, что анархия не может занять место принципа и, вместо этого, характеризуется контактом (un contatto), обозначающим изобретение форм-жизни, в которых разрушение и творение не разделены («L’uso dei corpi». P. 349).
«Подлинная анархия» – вот тема, которая наметилась на краю проекта Homo Sacer. Но она, возможно, всего лишь наметилась. В сборник работ разных лет «Творение и анархия. Произведение в эпоху капиталистической религии» вошел текст доклада 2013 года «Что значит повелевать?» [14]. В нем Агамбен признается, что анархия всегда казалась ему более интересной, чем демократия (ссылаясь опять же на Шюрмана – в противовес Жаку Деррида). Именно потому, что анархия неотделима от начала, археология неизменно обнаруживает на дне волевой команды неуправляемое всемогущество. Этот доклад заканчивается замешательством, которое подвешивает выбор между волей и могуществом, складываясь в вопрос: «Можно ли хотеть анархии? You will not?» («Creazione e anarchia». P. 107). В завершающем же эссе сборника «Капитализм как религия» финал еще более загадочный. Агамбен пишет:
«Никакого заключения не будет […] я хотел бы [просто] доверить вашему размышлению проблему анархии. […] Анархия – это то, что становится возможным только тогда, когда мы постигаем анархию власти. Творение и разрушение здесь совпадают без остатка» («Creazione e anarchia». P. 128).
Замешательство, в которое вошла мысль Агамбена после оставления проекта Homo Sacer, вряд ли можно безоговорочно свести к ожиданию – сам Агамбен во всяком случае дезактивирует такое сведéние [15]. Скорее это замешательство нужно прочитать в контексте модальной онтологии: как смешение, деактивацию, обезразличивание онтологического разделения – и открытие другого использования начала (использования, которое, например, не присваивает). Как это замешательство отвечает на вопрос о том, что можно рискнуть сделать прямо сейчас, в наших «вирусных» условиях? Понятно, что никакой «конструктивной части», отделенной от «деструктивной части», Агамбен не предлагает. Скорее он мог бы выразить онтологическое требование, приводящее в замешательство. Оно частично могло бы совпадать с заголовком одного из манифестов американских ситуационистов 1970-х [16] и состоять, ни много ни мало, в требовании всего.
В «Использовании тел» Агамбен противопоставляет интимность (как отношение с неприсваиваемым) и приватность (которая всегда находится в собственности). В приватной жизни выше всего ценится умение регулировать контакт. Господство приватности вытесняет (и включает в себя в качестве исключенного) использование тел с его размытыми границами, с его неизбежным замешательством и анархической контактностью («L’uso dei corpi». P. 128). Реакция на вирус усугубляет приватность, превращая, как раз посредством «социального дистанцирования», сообщества в массы максимальной плотности [17]. Требование всего в такой ситуации означало бы не разрушение дистанции, но доведение ее до крайности, до обезразличивания, в котором открывается возможность использования тел, использования вирусного пейзажа (и вируса – но уже в качестве союзника), использование языка – против выживания, для создания анархических форм-жизни.
[1] Agamben G. L’invenzione di un’epidemia // Quodlibet. 2020. 26 febbraio (www.quodlibet.it/giorgio-agambenl-invenzione-di-un-epidemia.
[2] Sotiris P. Against Agamben: Is a Democratic Biopolitics Possible? // Critical Legal Thinking. 2020. March 14 (https://criticallegalthinking.com/2020/03/14/against-agamben-is-a-democratic-biopolitics-possible.
[3] Agamben G. Chiarimenti // Quodlibet. 2020. 17 marzo (www.quodlibet.it/giorgio-agamben-chiarimenti.
[4] Idem. Una domanda // Quodlibet. 2020. 14 aprile (www.quodlibet.it/giorgio-agamben-una-domanda.
[5] Dwivedi D., Mohan S. La comunita` degli abbandonati // Antinomie. 2020. 12 marzo (https://antinomie.it/index.php/2020/03/12/la-comunita-degli-abbandonati/).
[6] См. об этом: Ceci F.M. Homo Sacer: The Last Act (L’Uso dei Corpi) // Critical Legal Thinking. 2014. December 12 (https://criticallegalthinking.com/2014/12/12/homo-sacer-last-act-luso-dei-corpi/.
[7] Вот как Плутарх (Жизнеописание Ликурга, XVIII) описывает нравы юных спартанцев: «Дети старались как можно тщательнее скрыть свое воровство. Так, один из них, рассказывают, украл лисенка и спрятал его у себя под плащом. Зверь распорол ему когтями и зубами живот; но, не желая выдать себя, мальчик крепился, пока не умер на месте». Этот эпизод в передаче Мишеля Монтеня использован Агамбеном в качестве эпиграфа к «Использованию тел».
[8] Этому понятию посвящена в основном предшествующая «Использованию тел» часть Homo Sacer «Высочайшая бедность»: Агамбен Д. Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни. М.: Издательство Института Гайдара, 2020.
[9] Он же. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011. С. 19.
[10] Он же. Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.: Институт Гайдара; СПб.: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2019. С. 112.
[11] Там же. С. 111–112.
[12] Ср.: «Упразднение без восставших, трансгрессия без преступников, отрицание без говорящих, экспроприация без экспроприаторов» (Schurmann R. Des Hegemonies Brisees. Mauvezin: Trans-Europ-Repress, 1996. P. 756).
[13] См.: Rauch M.F. An-arche– and Indifference: Between Giorgio Agamben and Reiner Schurmann // Philosophy Today. 2021 [forthcoming]. Vol. 65. № 3.
[14] См. рус. перев.: Агамбен Д. Что значит повелевать? М.: Грюндриссе, 2013.
[15] Ceci F.M. Op. cit.
[16] For Ourselves. The Right to Be Greedy: Theses on The Practical Necessity Of Demanding Everything. Washington: Loompanics Unlimited, 1974.
[17] Agamben G. Distanziamento sociale // Quodlibet. 2020. 6 aprile (www.quodlibet.it/giorgio-agamben-distanziamento-sociale.
