Ольга Балла
Человек и его невозможность
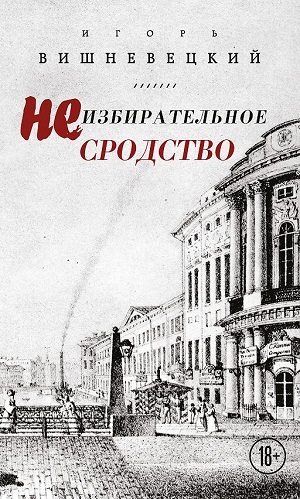
Вишневецкий И. Неизбирательное сродство: [сборник].
М.: Издательство «Э», 2018. — 384 с.
Новый сборник прозы поэта, писателя, кинорежиссера, историка литературы и музыки Игоря Вишневецкого состоит из трех больших текстов — и из трех времен, в которые они отправляют читателя. Книга открывается романом «из 1835 года» с обманчиво-гётевским названием «Неизбирательное сродство» (обманчиво, потому что, по словам самого автора, из всего «Избирательного сродства» Гёте ему пригодилось для его собственных целей лишь заглавие), за ним следуют две повести: венецианская — «Острова в лагуне», действие которой происходит в неопределенно-«наше» время (двухтысячные? две тысячи десятые? — на улицах Местре, венецианского предместья, по которым проезжает герой, толпятся «стайки безработных сербов, украинцев, тунисцев…» (с. 214)), и не оставляющая сомнений в датировке происходящего, блокадная — «Ленинград».
Понятно, что каждый из этих текстов писался как самостоятельный, с собственными задачами и собственной, так и хочется сказать, музыкальной темой (автору этих строк не раз приходилось ловить себя на мысли, что тексты Вишневецкого, прихотливо-, подчеркнуто-литературные, — еще прежде всякой литературности — явления музыкальные, интонационные, фонетические, что определяет и словесный состав каждого из них). Однако их совершенно явно объединяют сквозные темы, заявленные уже в первом из них, «Неизбирательном сродстве»: человек и его невозможность, жизнь и смерть, зыбкая граница между ними; обманчивость любви как представительницы жизни (которая, в конечном счете, оборачивается представительницей вечной ее оппонентки), иллюзия и реальность — их неразделимость, неразличимость, перетекание друг в друга, принципиальное — и непреодолимое — расхождение человеческих представлений о мире и того, что происходит «на самом деле»; взаимодействие человека с превосходящими его и непонятными ему силами; обобщенно говоря — таинственность, непостижимость и трагичность мира.
Роль сюжета (захватывающего, иной раз и гипнотизирующего, обескураживающего, в самый неожиданный момент выдергивающего из-под ног у читателя налаженные было ожидания, бьющего под дых) в каждом из случаев представляется мне вполне вторичной. И это при том, что Вишневецкий умеет выстраивать его виртуозно, искусно удерживая читателя в напряжении, — что лишь подчеркивает служебную, техническую роль сюжетного построения. Не то — метасюжет: тот самый пучок сквозных тем, который удерживает все тексты сборника вместе, определяя их довольно избирательное, но несомненное сродство. Он первичен безусловно.
Стоит обратить внимание на то, что сборник многоязычен: он говорит русскими языками разных времен, разных исторических и экзистенциальных состояний, каждый его текст вмещает в себя возможности разных жанров словесности той эпохи, в которую он отправляет читателя («Острова в лагуне», пожалуй, в меньшей степени; эта повесть, самая моноязычная из всех, не уступает двум остальным текстам в таинственности — она действует другим: взаимоналожением, взаимопросвечиванием, взаимопереходом реальностей).
В связи с романом и ленинградской повестью читателю, несомненно, придет на ум мысль о вложенных в эти тексты стилизаторских усилиях, более того — о сложнейшем стилизаторском искусстве. Подумавший так окажется прав и, может быть, сам себе не представит насколько: весь «роман из 1835 года» написан, по признанию самого автора, так, чтобы в нем не было ни единого (!) слова из тех, которых не включали бы в себя русские словари того времени. (Он, фактически, кропотливо выстроен: с такой прилежной тщательностью, что, случается, ловишь себя и на мысли — уж не пародия ли он? Но нет.)
Всю ночь не снимались с якоря, ждали столичной почты. Наконец подошла шлюпка с тяжёлыми чемоданами, якорь был поднят, лопасти колёс ударили о воду, и, выдыхая длинный шлейф дыма из своей высокой трубы, “Николай” начал путь к Травемюнде.
Нам он показался бы маломощным, почти что игрушечным — первым классом плыло всего несколько десятков пассажиров; в общей мужской каюте военные, на службе или в отставке, а ещё купцы, художники и учёные; в общую женскую никому, кроме самих пассажирок, доступа не было, и о составе мы достоверно не скажем; семьи вынуждены были на время путешествия разлучаться; а ведь имелись ещё классы второй и третий — для низших сословий и прислуги; но всем, кто на том пироскафе плыл, он мнился волшебной махиной, даже махинищей, громкой победой над волей стихий.
Путешествовал ли ты, любезный читатель, в шкапу? (с. 7—8).
Открывающий сборник, этот роман может быть прочитан как ключ ко всей книге в целом.
В случае ленинградской повести работа была еще сложнее и тоньше. Этот текст выговорен голосами людей начала сороковых годов XX века. Часть их — но лишь часть — унаследовала — и на свой лад, применительно к своему опыту, конечно, видоизменила — речь века Серебряного, а с нею и строй его мысли и чувства. Вне всяких сомнений, унаследовал эту речь Глеб Альфани (Альфа), большие фрагменты дневника которого принадлежат к важнейшим несущим и смысловым и, повторюсь, интонационным конструкциям романа, — именно ею он, по существу, и изъясняется. Этой же речью организовано и мировосприятие Глебова собрата по историческому опыту, Федора Четвертинского:
Город действительно дичал, возвращался к исконно-болотному состоянию. Хорошо ли это было, плохо ли — трудно сказать. Фёдор Четвертинский, прекрасно запомнивший первое одичание, случившееся между девятьсот девятнадцатым и двадцать вторым годами, находил в этом что-то циклическое, напоминавшее жителям «Петрограда (vulgo Финнополя)», как называл город один острослов девятнадцатого столетия, на какой почве он воздвигнут — на манер сейсмических колебаний в тектонически неустойчивых местах.
Фёдора Четвертинского в силу склада ума интересовала почва языковая (всё, всё в языке!) — проникновение индоевропейских смыслов в финно-угорский субстрат, происходившее ещё до того, как воодушевляемые замыслом Петра русские решили возвести здесь свой главный город. Четвертинский рассчитывал постичь закон смысловых возвращений к природному, потрясавших основания прекрасно построенного ансамбля, ритм напоминаний, как он мысленно говорил себе, «о том, что здесь было прежде» (с. 294).
Не говоря уже о том, что здесь есть и пласты — основной для того времени — советской постреволюционной речи. В целом «Ленинград» написан, продуман, прожит языком настолько близким исторически, что почти нашим — и все-таки не нашим: воспроизводить такой многократно труднее.
В конце концов, автор подключает еще один речевой регистр и говорит поэтическим языком переходной, сразу-постреволюционной эпохи, еще полной трагически прерванным Серебряным веком, который уже — утрата и кровоточащая рана. (Заметит ли читатель, что утрата, невозможность — одна из самых настойчивых тем всей книги во всех трех ее частях?) Послесловием — «дополнением» — к повести Вишневецкий делает поэму «Светозвучие», писанную «незабытым поэтом» Арсением Татищевым в 1919—1922 годах, а комментирует ее изнутри своих сороковых, их средствами — Глеб Альфа.
Лучше видеть мне тебя так:
в ангелической сущности, в солнцу
открытом лученье,
опускающей в воду стопу,
разжимающей в воздух ладонь,
на которой прочертится знак,
раскрывающий зренье
сквозь отземные стебли дыханий,
сквозь струнное вне.
Оставайся со мной где-то рядом, где
может сложиться
с локтем локоть и если уж тень, то
теней
светоножницы, мягких колосьев
глаза, звуков лица…
(с. 371)
(Наблюдая это сложное согласование интонаций, нельзя не вспомнить музыкальный опыт автора, не задуматься о музыкальном слухе, неотменимо потребном для того, чтобы уловить тонкости звучания эпохи, не сбиться на нарочитость, утрированность и, в конечном счете, на фальшь. По моему чувству, у Вишневецкого ее нет.)
Одна из статей Игоря Вишневецкого, посвященная совсем другому предмету (дружеской переписке композиторов Сергея Прокофьева и Владимира Дукельского), называется «Поэтика многоязычия в культуре XX века». Есть все основания задуматься и о поэтике многоязычия у самого Вишневецкого, о смысле его усилий, направленных на как можно более точное воспроизведение речевых — а с ними и атмосферных — особенностей воссоздаваемых времен.
Дело в том, что он не играет. (Трудно поверить — но при виртуозной стилизаторской работе, которая по убедительности сродни мистификации, при всей фантастичности — «выдуманности» — происходящего в «Неизбирательном сродстве» да и в «Островах в лагуне» тоже — он серьезен предельно: до полной гибели всерьез.)
По крайней мере, играет он не в большей степени, чем это делает искусство вообще.
Можно, конечно, сказать, что при помощи своей ювелирной стилизующей работы Вишневецкий надевает на себя маски. Однако эти маски — такого свойства, что, проживаясь вполне всерьез, каждая становится на некоторое время лицом: расширяет диапазон выразительных, вообще — мимических возможностей лица — и оптические возможности глаз. Стиль (даже, особенно в случае «Ленинграда», многостилье) здесь — способ видеть мир и проживать его, и одно и то же, сказанное в разных стилистических ключах, — никогда не одно и то же.
(Можно сказать и так: всякий раз это — не маска, но, скорее, костюм-чувствилище, многократно усиливающий авторскую, а с нею и читательскую восприимчивость.)
Вмещая в роман многообразие жанров каждой из занимающих его эпох, Вишневецкий всегда работает со смысловой пластикой, присущей только этому времени, составляющей со стилистической поверхностью функциональное целое. Заговаривая языком (языками) другого времени, он действительно осваивает и присваивает этот язык — буквально, делает его из чужого — своим и не выходит за его пределы (мы помним: в «Неизбирательном сродстве» — ни одного слова, неизвестного 1830-м).
И очень может быть, что никакая это, на самом деле, вовсе не стилизация. (Подбирая название этому типу действия, я бы остановилась в качестве чернового варианта на «стилистическом присвоении».)
Похожая по внешним приметам на стилизацию (которая — наполнение заимствованных форм чуждым им содержанием), эта работа, по сути, совершенно не такова: она выполняет совсем другие, куда менее очевидные — и даже не поставленные как следует в нашей культуре, не то что не решенные — задачи.
Забирая чужое слово одновременно с его (тогдашней) смысловой, интонационной аурой, Вишневецкий не экзотизирует его (нынешнему слуху, безусловно, экзотичное), но, напротив, доместицирует, обживает, — обживая вместе с ним и самочувствие людей соответствующего времени, усваивая их оптику.
Может быть, он осваивает таким образом недоосвоенные возможности языка ушедших эпох — выговаривая то, что на этих языках могло быть, да не было сказано и прожито, — а таким образом — и недоосуществленные возможности их жизни.
В каждом из текстов книги он работает над разными аспектами этой (гипер)задачи, которая видится мне состоящей в (не таком уж неявном) родстве с упомянутой связкой сквозных мотивов, объединяющих и роман, и повести.
И в том, что именно он выбрал для стилистического присвоения, есть своего рода культурологическая концепция, культурологическое высказывание, — а пожалуй, и культурологический эксперимент.
«Неизбирательное сродство» — сколько бы ни казалось это парадоксальным — по своему существу антикатастрофическая речь. Причем в смысле не только литературном, но, шире, — в историческом (и уж не антропологическом ли?). Бывает речь на разрыв, а эта, наоборот, — соединяющая разрывы. В ней есть нечто утопическое, нечто альтернативно-историческое: попытка если и не развить, то хотя бы чуть-чуть продлить в возможное будущее ту — младшую, условно говоря, — в наших сегодняшних глазах младшую — ветвь русской словесности, какая могла бы ветвиться и крепнуть, не случись в ней, допустим, Толстой и Достоевский в том их виде, в каком мы их знаем. Это иной путь постпушкинского развития; путь с Гоголем, не обратившимся в проповедника; путь с Пушкиным, выжившим и дожившим до глубокой, гармоничной, уравновешивающей и мудрой старости. В 1835 году он еще жив. Все еще может обернуться иначе.
Это такая русская литература, какой она себя не знает, не успела узнать, потому что развитие двинулось иными путями.
Это — русская литература до социальности и социального критицизма, до роли совести нации, не морализирующая, не проповедующая, не обвиняющая, не культивирующая вину перед народом, не зовущая к топору. Литература, чуткая к таинственности мира. Литература, которая занимается не переделкой мира на более правильных основаниях, а изумлением перед ним.
Это — литература, в которой мог бы возникнуть русский Борхес.
(Не из этой ли неслучившейся литературы заглядывает в книгу повесть «Острова в лагуне» — о мучительной, совсем реальной, но так в конечном счете и не удавшейся любви человека к принявшей человеческий облик венецианской воде? Один из немногих ее написанных текстов, впитавший в себя состоявшийся опыт, но главным образом отсылающий к своим несбывшимся контекстам.)
«В “Неизбирательном сродстве”, — писал в «Живом журнале» Кирилл Анкудинов, — есть сюжет — фантастико-мистический — по вкусу нынешней литературы и по вкусу тогдашней литературы. Но две трети текста почти не имеют к сюжету отношения. Чего стоит рассказ Корсакова о похождениях в Северной Африке или впечатления Эспера Лысогорского от итальянской церковной архитектуры и живописи»[1].
А вот наверняка неспроста. Вишневецкий слишком тонко чувствует текст и занимается слишком кропотливой работой по его выращиванию, чтобы просто так расходовать драгоценное вещество текста. И сюжет, и этот внесюжетный по видимости избыток должны как-то работать на общую задачу, выполняемую всеми сторонами романа, всеми его составляющими частями.
Независимо от своего отношения к сюжетной линии, принятой за основную, эти части «Неизбирательного сродства» имеют отношение к чему-то более важному, чем она: к картине мира, в котором разворачивается это действие и которая присутствует в головах у всех его участников, что бы с ними ни происходило.
Вводящий читателя в блокадную трагедию «Ленинград», повествующий и о хрупкости человеческих иллюзий (все неминуемо оборачивается не так, как представлял себе и мечтал в начале уместившихся в повесть событий Глеб Альфа), парадоксальным образом, говорит о них же как об источнике стойкости, как о единственно возможном, единственно надежном противовесе смертоносной реальности. «Ленинград», который, казалось бы, целиком о сползании в катастрофу, о разрушении человеческого и не оставляет своим героям никаких надежд, на самом деле — речь тоже антикатастрофическая: она — о том, как сохраняется, вопреки всем катастрофам, и удерживает гибнущего человека на себе золото докатастрофических смыслов. Золото тех возможностей, того «светозвучия», которому не дали сбыться, — а оно все-таки сбылось.
Что касается задачи, на которую каждый из текстов работает на свой лад, то это, кажется, — вчувствование в природу жизни и смерти, в разделяющую и связывающую их границу, в глубокие связи, влекущие друг к другу человеческое и нечеловеческое, культурное и природное, в соотношение сил между ними.
