Евгений Савицкий
Автобиографии и постмодернистская теория
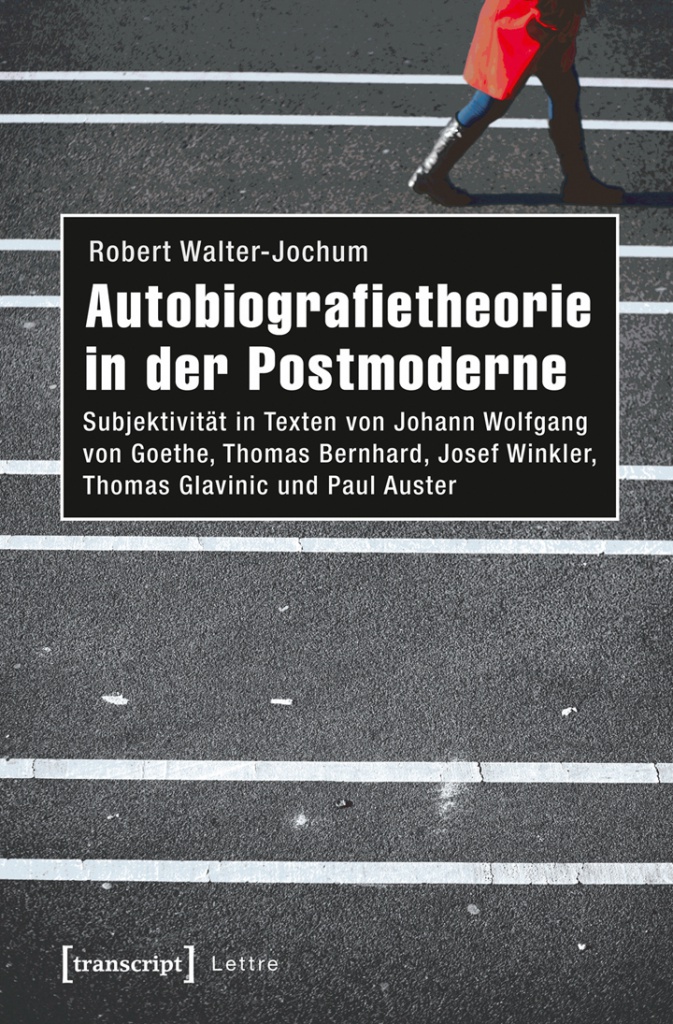
Walther-Jochum R. Autobiographietheorie in der Postmoderne: Subjektivität in Texten von Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Bernhard, Joseph Winkler, Thomas Glavinic und Paul Auster.
Bielefeld: Transcript, 2016. — 356 S. — (Lettre.)
Книга «Теория автобиографии в эпоху постмодерна» Роберта Вальтера-Йохума, научного сотрудника Института германской и нидерландской филологии Свободного университета в Берлине, посвящена влиянию постмодернистских литературных теорий на осмысление жанра автобиографии. По мнению автора, до сих пор в филологии преобладают старые, восходящие к началу ХХ в. определения автобиографии, не учитывающие проблематизацию фигур субъекта, автора, подлинного человеческого «я», произошедшую в литературоведении 1960—1970-х гг. Как отмечает Вальтер-Йохум, образцовая модель по-настоящему искреннего автора была задана еще в «Исповеди» Жан-Жака Руссо, где описание конструируется таким образом, что жизнь писателя выглядит представленной абсолютно достоверно. Однако особую важность настоящая автобиография приобретает около 1900 г., когда оказывается ключевым элементом самоосмысления гуманитарных наук в их противопоставлении естественным. Так, Вильгельм Дильтей полагал, что науки о духе занимаются не объяснением, а пониманием жизненных явлений, а для этого необходимо проникнуть в субъективный мир человека, который составляется из индивидуальных переживаний. Именно индивидуальность человеческого жизненного опыта делает его несводимым к естественно-научным закономерностям. Таким образом, у Дильтея возникала двойная связь пережитого и понимаемого — они взаимно обуславливали друг друга. Субъективное связывалось с пережитым, а также со способностью его выражать и интерпретировать. Не удивительно поэтому, что Дильтей определял автобиографию как «высшую и наиболее поучительную форму, в которой представлено понимание жизни. Здесь жизненный путь явлен как нечто внешнее, чувственно данное, от чего понимание должно проникнуть к тому, что обусловило этот путь в определенной форме. Но при этом человек, понимающий этот жизненный путь, идентичен тому, кто этот путь проделал. Из этого вырастает особая интимность понимания»[1].
Позднее французский философ Жорж Гюсдорф несколько релятивизировал дильтеевское понимание автобиографии, указав, что потребность в ней не существовала всегда, а появилась в европейской культуре лишь в XVIII в., когда возникло представление об исторической уникальности и ценности индивидуального опыта[2]. Тем не менее, как отмечает Вальтер-Йохум, в целом Гюсдорф соглашался с Дильтеем в том, что никто не может знать лучше, о чем думал и к чему стремился в прошлом человек, чем он сам. Когда некий человек думает о самом себе, перед ним нет защитной стены «частной жизни», он способен видеть и то, что за ней скрывается, а следовательно, и справедливо судить о себе, на что не способен никто другой[3]. Таким образом, автобиография у Гюсдорфа — не только важнейшее средство самопознания, как у Дильтея; она оказывается еще и защищена от всякой критики. По мнению Гюсдорфа, если впоследствии выяснится, что в автобиографии какие-то сведения не соответствуют действительности, это будет означать не ложность автобиографии, а ложность наших представлений о действительности, поскольку интересовать нас должна не «истина фактов», а «истина человека», служащая выражением глубины его личной жизни[4]. Таким образом, здесь сохраняется неокантианское представление о сильном авторском «я». Схожим образом рассматривает автобиографию американский исследователь Рой Паскаль, для которого она является подлинным выражением личности человека, даже когда сообщаемое в ней истинно лишь отчасти[5]. При этом, как отмечает Вальтер-Йохум, наделение автобиографии исследовательской ценностью происходит у Гюсдорфа и Паскаля в ущерб ее референциальности — способности отсылать к реалиям за пределами субъективного авторского мира.
В 1960—1970-х гг. критика представлений об авторской автономии у Р. Барта и ориентированной на автора эстетики у Х.Р. Яусса и В. Изера делает все более сложным сохранение прежних представлений об автобиографии, и иной подход к ее изучению находит Филипп Лежён. В его книге «Автобиографический пакт»[6] специфика автобиографического жанра определяется через понятие «акта чтения», задающего определенные границы восприятия литературного произведения. Возражая Барту, Лежён пишет, что рецепция никогда не бывает полностью автономной от текста, который открывает определенные возможности игры с ним, и в случае автобиографии они иные, чем в прочих жанрах. При этом, отмечает Вальтер-Йохум, хотя Лежён и делает акцент на интерсубъективном характере автобиографии как литературного текста, в итоге он приходит к такому ее определению, которое не сильно отличается от прежних: автобиография — это ретроспективный рассказ в прозе некоего человека о его жизни, в котором основное внимание уделяется его индивидуальным впечатлениям и особенно его становлению как личности. Вальтер-Йохум критикует основные элементы этого определения Лежёна, указывая, что автобиографическое повествование вполне может иметь и поэтическую форму, а ретроспективный рассказ о жизни и о становлении личности можно найти в довольно широком спектре литературных произведений и в итоге единственное, что действительно отличает автобиографию, — это представление о реальности автора и о тождестве авторской фигуры и фигуры рассказчика. Оно, однако, едва ли может быть чем-то обосновано, поскольку отсылает к внетекстовой реальности, к которой мы не имеем прямого доступа. Из-за привязки к внешнему миру автобиография у Лежёна, как полагает Вальтер-Йохум, по сути, перестает быть литературным жанром. Но именно акцентирование референциальности сделало теорию Лежёна столь привлекательной для тех, кому хотелось вернуться во времена доструктуралистского литературоведения и спокойно заниматься сопоставлением реальных событий из жизни автора с описанным в его автобиографии. Книга Лежёна, использующего понятия Барта и филологов Констанцской школы, выглядела как теоретически фундированный ответ структуралистам, но на деле, по мнению Вальтера-Йохума, использовалась в качестве фигового листка теми, кто предпочитал избегать сложных вопросов, а не продумывать их.
Недалеко ушла от Дильтея и более новая популярная теория авторского самоинсценирования в автобиографии[7], поскольку и в ней сохраняется различие между фиктивным и настоящим авторским «я», которое себя инсценирует[8]. Так, Вольфганг Изер в «Фиктивном и воображаемом» писал: «Ведь инсценирование содержит в себе то, что ему предсуществует и как раз в нем проявляется»[9]. По мнению Вальтера-Йохума, от такого понимания авторского «я» в автобиографии ничем, по сути, не отличается и концепт самосочинения (autofiction), предложенный Сержем Дубровски[10], поскольку в нем, при наличии критики референциальности и прочих постмодернистских мотивов, все же сохраняется представление о целостной авторской интенции.
Чтобы выйти за рамки дильтеевской парадигмы в осмыслении автобиографии, Вальтер-Йохум предлагает придерживаться положений постмодернистской теории, представленной прежде всего работами Хейдена Уайта, Мишеля Фуко, Юлии Кристевой и Ролана Барта. У Уайта он отмечает важность критики референциальности, а также указания на неизбежность включения «я» в сюжетные модели (emplotment): индивидуальное не может быть понятно само по себе, оно всегда должно быть означено через что-то уже известное. Фуко, считавший субъективность продуктом дискурсивных практик, и Кристева с ее понятием интертекстуальности, превращающим автора в «мозаику из цитат» (с. 87), в «субъекта письма» (с. 90), также позволяют уйти от авторской интенциональности. Наконец, Барт не только провозгласил «смерть автора», но и создал образцы нового биографического и автобиографического письма. Исследуя Фурье, Лойолу и де Сада как логотетов, «основателей языка», Барт подчеркивал, что «автор, который выходит из своего текста и входит в нашу жизнь, не обладает единством; это просто множественное число “чарований”»[11]. В книге «Ролан Барт о Ролане Барте» вводится понятие биографемы, позволяющее провести различие между «старым» субъектом, превратившимся в пепел, в мертвую материю, рассеянную по тексту, но не способную нам помочь в восстановлении живого автора, и «субъектом письма», возникающим в работе воображения, которое соединяет разрозненные остатки, но не способно придать им целостность, оставляет пустоты, пространства для фикциональных восполнений. Причем книга Барта включает в себя элементы, не относящиеся к дискурсивному в узком смысле: вещи и практики также участвуют в составлении биографем.
Задав эту концептуальную рамку, Вальтер-Йохум приступает к анализу ряда автобиографических текстов, и первый из них — «Поэзия и правда» И.В. Гёте, сочинение, которое Ингрид Айхингер определила в свое время как «идеальный тип» автобиографии в немецкой литературе (с. 115). Из весьма объемного текста Гёте Вальтер-Йохум выбирает «Зезенхеймский эпизод», которому предшествует воспоминание о Гердере, читающем немецким студентам в Страсбурге «Векфильдского священника» О. Голдсмита, а заканчивается эпизод сказкой о Мелузине, — таким образом, эти два повествования обрамляют основное действие. По мнению Вальтера-Йохума, неверно воспринимать текст Гёте просто как воспоминание о чтении романа Гердером и его недовольстве тем, как наивно реагировали на прочитанное юный Гёте и другие слушатели, не способные распознать строение текста и предугадать его развитие. Не было целью Гёте и просто сообщить читателю о своем любовном увлечении дочерью деревенского пастора из Зезенхейма. На самом деле содержание романа Голдсмита представлено у Гёте в сильно искаженном виде, а путешественники, посещавшие Зезенхейм по следам Гёте, не находили там ничего из описанного в автобиографии, что, впрочем, не мешало им и дальше верить ей. Допущение референциальности текста заводило исследователей в тупик и не позволяло увидеть других возможностей его прочтения. Согласно Вальтеру-Йохуму, Гёте не рассказывает о фактах своего прошлого, а посредством фикциональных образов выстраивает траекторию своего становления как писателя: от гердеровского возмущения неспособностью слушателей распознать конструкцию текста — через как бы повторение романной ситуации в Зезенхейме — до разрыва с Фредерикой, который в сказке о Мелузине осмысляется как утрата прежней наивности, осознание несовместимости миров простой сельской девушки и ученого студента-правоведа. Итак, Вальтер-Йохум сначала вслед за Уайтом ставит под сомнение референциальность, а затем «при помощи» Кристевой выявляет интертекстуальность «Поэзии и правды»; это произведение, таким образом, работает не с реальностями, а с дискурсивыми практиками, о которых писал Фуко и в рамках которых Гёте, подобно Саду, Фурье и Лойоле, оказывается своего рода логотетом — создает себя в языке и посредством языка, в результате чего «Зезенхеймский эпизод» и его составляющие могут быть рассмотрены как своего рода биографемы. Автобиографический текст Гёте трактуется как провозвестник «лингвистического поворота»[12], и читать его следует соответствующим образом.
Предложенное Вальтером-Йохумом прочтение «Зезенхеймского эпизода» представляется вполне допустимым и правдоподобным, хотя и, в свою очередь, недоказуемым, потому что правильность интерпретации и в этом случае гарантируется лишь внетекстовой авторской интенцией, от которой не удается избавиться. Сам по себе текст вполне допускает и старое «референциальное» прочтение, и, тем более, прочтение его в качестве авторского самоинсценирования, особенно учитывая, что весь сюжет «Зезенхеймского эпизода» построен на принятии юным Гёте разных вводящих в заблуждение обличий. Их фикциональность при этом ни от кого не скрывается, они обманывают лишь на короткое время, и, более того, как раз тогда, когда Фредерика понимает, что перед ней лишь сменяющие друг друга маски, ее разговор с Гёте оказывается признанием в любви, первым проявлением взаимности настоящего чувства. Соотношение правды и вымысла у Гёте, таким образом, гораздо более сложно и парадоксально, чем его пытается представить Вальтер-Йохум, вслед за Уайтом просто устраняющий реальность, сводя все к нарративным играм. В результате «постмодернистская теория» оказывается здесь лишь еще одним способом свести текст к унылой банальности однозначного прочтения. То, что в автобиографии мы имеем дело с реальным Гёте, будь то страсбургского периода или периода написания «Поэзии и правды», действительно недоказуемо, но столь же недоказуемо и обратное — что этот текст не имеет отношения к реальному прошлому Гёте. Автобиография в данном случае строится как раз на амбивалентности истинного и фикционального, на их взаимной обратимости, не позволяющей ясно определить что-либо в качестве одного или другого, разграничить и противопоставить их друг другу, и это вполне объяснимо в рамках идеологии «веймарских классиков», стремившихся избежать как приземленного бюргерского реализма, так и его идеалистических противоположностей. Если и привлекать здесь постмодернистские теории, то более уместными были бы прочтения «Поэзии и правды» в духе исследования амбивалентностей текста у Поля де Мана[13], но, как ни странно, деконструктивистские философию и литературоведение Вальтер-Йохум оставляет за рамками своего исследования.
Впрочем, выводы в конце главы о Гёте сами оказываются весьма амбивалентны. Автор утверждает, с одной стороны, что субъект у Гёте возникает как «продукт текстовых механизмов», «он — вымысел, а не предшествующая правда», «он возникает в тексте, на поверхности которого можно проследить его формирование» (с. 150). С другой — что «между литературой и вымышленным жизненным миром создается напряжение, оказывающееся продуктивным как для дальнейшего развития субъективности поэта, так и для его поэтического искусства» (там же). Таким образом, здесь есть нечто, что создает позитивное напряжение, предсуществуя ему; напряжение это приводит не к разрушительному кризису, как в некоторых французских левацких теориях, а к росту производительности, позитивно сказывающемуся и на личностном росте, и на художественном мастерстве. Можно сказать, что от концепции, напоминающей раскритикованное «самосочинение» Сержа Дубровски, Вальтер-Йохум переходит к образу писателя как успешного менеджера для самого себя. Далее он продолжает: «Там, где выигрывают письмо и субъективность писателя, прототексты и подразумеваемые жизненные миры отходят на второй план; они оставляются позади по мере того, как поэтическая субъективность удаляется от них и выходит на новый уровень» (там же). Наряду со словами «выиграть» и «выйти на новый уровень», снова отсылающими к языку менеджмента и деловой успешности, здесь можно отметить и то, что «постмодернистская» редукция всего к поверхности текста превращается в многоуровневое движение, понимаемое, впрочем, как однонаправленно восходящее. Синхронность письма и авторского «я» распадается во временной динамике процесса удаления от того, что становится «вторым планом». Автор книги не видит между этими высказываниями никакого противоречия, что, вероятно, можно истолковать не только как логическую непоследовательность. Пример Вальтера-Йохума показывает, что некогда субверсивные постмодернистские теории сегодня вполне могут прочитываться и как позитивная составляющая того постмодернизма, который Жан-Франсуа Лиотар или Фредерик Джеймисон в свое время описывали как культурную логику позднего капитализма[14].
От Гёте Вальтер-Йохум переходит к автобиографическим текстам трех австрийских и одного американского писателя второй половины ХХ — начала XXI в.: Томаса Бернхарда, Томаса Главинича, Йозефа Винклера и Пола Остера. Из пяти частей автобиографии Бернхарда[15] подробно рассматриваются две: «Подвал» и «Дыхание». Как и у Гёте, автор находит здесь критику представлений о референциальном характере биографии, которым противопоставляется формирование «я» как включение в сюжетные модели (emplotment). Рассказ о том, как Бернхард бросает учебу в гимназии, чтобы вести маргинальный образ жизни в самом неблагополучном районе Зальцбурга, трактуется как описание экзистенциального поворота, благодаря которому удается освободиться от узкоинтеллектуальной учебной муштры в элитной школе, раствориться в простонародной среде, столкнуться с насущными для людей проблемами выживания и, переиначивая рассказываемые в этой среде истории, открыть в себе творческую способность повествователя. В дальнейшем, как отмечает Вальтер-Йохум, эта тематика экзистенциального поворота и гетеротопии повторяется в других частях автобиографии, в частности в «Дыхании», где рассказывается о пребывании юного Бернхарда в клинике для больных туберкулезом. Среди умирающих людей Бернхард постигает значение жизненного кредо его (тоже больного) деда: «Душа и дух торжествуют над телом». Будущий писатель начинает все больше интересоваться искусством и литературой, которые, как ему кажется, позволяют преодолеть и ограниченность телесного существования, и те жесткие рамки социального исключения, которые воплощает собой туберкулезная больница. То, что эти автобиографические рассказы не являются воспроизведением реального жизненного опыта писателя, особенно очевидно в пятой части («Ребенок»), где подробно воспроизводится ход мыслей восьмилетнего мальчика. Вальтер-Йохум приходит к выводу, что автобиографию Бернхарда следует читать как «апофеоз рассказчика»: именно он придает форму материалу повествования, лишь он имеет право слова, в то время как реальное «я» вытесняется. При этом пять томов автобиографии Бернхарда — это не только конструирование авторского «я», но и гимн могуществу литературы, способной вознести нас над горестями повседневной жизни (с. 190).
Здесь автор вновь, вслед за Уайтом, занимает радикальную позицию в своем стремлении доказать недостоверность автобиографии. Сопоставление с недавней книгой В.В. Котелевской «Томас Бернхард и модернистский метароман», возможно, позволит лучше понять, с чем именно борется Вальтер-Йохум. Как пишет Котелевская, «травма войны, несомненно, была мощным фактором искаженного письма Бернхарда <…>. Боль, нанесенная войной, воссоздана Бернхардом в отдельных деталях автофикциональной пенталогии»[16]. Несмотря на признание автофикциональности текстов австрийского писателя, они все же трактуются как воссоздание подлинной боли — травмы, оставленной войной, — а она, в свою очередь, служит объяснением необычной манеры письма, что замыкает объяснительный круг. Вальтер-Йохум, как представляется, вполне справедливо находит такого рода рассуждения нелогичными и едва ли фактически обосновываемыми, предлагая «перевернуть» их и увидеть в самом письме исток странного авторского «я», не отсылающего ни к каким подлинным переживаниям, которые есть лишь производные эффекты emplotment’а. Остается, однако, открытым вопрос, для чего же тогда нужна была автобиографическая/автофикциональная форма текста, почему об условиях творческого становления нельзя было написать ни в полностью фикциональном романе, лишенном очевидных отсылок к собственному прошлому, ни в фактологически выверенном литературоведческом труде о самом себе. Редукция же текстов Бернхарда к пятикратно повторенной критике традиционной автобиографии, гимну в честь могущества литературного дискурса представляется не вполне убедительным исследовательским решением.
Обращаясь к творчеству Главинича, Вальтер-Йохум сначала рассматривает роман «Работа ночи» (2006), который не является автобиографическим, но главный герой которого, Йонас, загадочным образом оказался единственным человеком в опустевшей Вене, что дает материал для исследования проблемы человеческой автономии. В отсутствие других людей Йонас пытается при помощи разных медийных инструментов удостовериться в реальности происходящего и собственного «я»: звонит по телефону, рассылает SMS, включает телевизор, который ничего не показывает, ищет в почтовом ящике газету, затем создает систему аудио- и видеофиксации своего поведения и монтирует из фрагментов записей целый фильм о себе. Медиа, однако, оказываются неспособны подменить признание со стороны других людей, а без него все становится бессмысленным. Все более телесно и морально деградирующий Йонас в конце концов кончает жизнь самоубийством. Название романа объясняется тем, что, как выясняет при помощи технических средств Йонас, по ночам он совершает действия, о которых потом не помнит, отчего ему кажется, что в городе есть кто-то еще. Это открытие еще больше усложняет попытки разобраться в собственном «я», подрывает личную идентичность героя романа. Для Вальтера-Йохума «Работа ночи» примечательна тем, что в ней показывается невозможность существования автономного субъекта, исключенного из социально-дискурсивных связей. Понимание этого важно для собственно автобиографического произведения Главинича «Но это же я!», которое, впрочем, как снова подчеркивает Вальтер-Йохум, было бы неправильно читать как достоверный рассказ о себе. Напротив, речь в нем идет о том, как авторское «я» в условиях литературного рынка формируется, вынужденно ориентируясь на считающиеся успешными литературные тексты и пытаясь их превзойти. В изображении писательской жизни у Главинича Вальтер-Йохум находит много общего с теорией Гарольда Блума о возникновении авторской оригинальности из «эдипальной» борьбы за признание[17]. «Но это же я!» — восклицает протагонист автобиографии, когда слышит по радио, что его друг Даниель Кельман признан лучшим писателем своего поколения. Вальтер-Йохум стремится представить автобиографический текст Главинича как такой, в котором принимаются все базовые положения постмодернистской теории (интертекстуальность, отказ от референциальности; фрагментированное «я», зависимое от доминирующих дискурсов).
В главе о Йозефе Винклере Вальтер-Йохум указывает, что трилогия «Дикая Каринтия» (1979—1982), в которой описываются ужасы жизни в проникнутой католическим догматизмом деревне, обычно трактовалась как автобиографическая, что, однако, было отчасти опровергнуто Винклером в благодарственной речи по случаю вручения ему Премии им. Георга Бюхнера. Основное внимание Вальтер-Йохум уделяет именно этой речи, и, хотя в ней не раз встречаются отсылки к подлинности пережитого, в целом она трактуется как составленная из биографем; она утрачивает всякий референциальный характер, и сами отсылки к реальности оказываются лишь текстуальными условностями. Наконец, последний исследуемый в книге Вальтера-Йохума корпус текстов — это произведения Пола Остера, в которых, начиная с «Измышления одиночества» (1982, рус. пер. 2016), происходит emplotment авторской фигуры, в результате чего они образуют сложную сеть интертекстуальных связей, при этом в воображении читателя происходит никогда не завершаемое складывание целостного образа автора, что, согласно Вальтеру-Йохуму, близко к идеям рецептивной эстетики Яусса и Изера.
Хотя в книге исследуются такие автобиографии, которые, по мнению автора, являются прямыми откликами на постмодернистские теории (а также «Поэзия и правда» Гёте — произведение, якобы предвосхищающее их), в Заключении Вальтер-Йохум еще раз подчеркивает, ссылаясь на Уайта, что вообще всякие автобиографии должны рассматриваться как фикциональные. Следовательно, нужно отказаться от попыток определить специфику этого жанра на основе отсылок к внетекстовой реальности. Четкое отделение этого жанра от других вообще едва ли возможно. Тем не менее задача постмодернистской теории автобиографии — проследить специфические для нее текстовые стратегии конструирования субъекта. Таким образом, книга Вальтера-Йохума справедливо напоминает о проблематичности многих объяснений, исходящих из дотекстовой реальности, но в то же время показывает, что автобиографии, трактуемые как (прото)постмодернистские, не всегда можно свести к отражению соответствующих теорий.
[1] Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе / Пер. с нем. под ред. В.А. Куренного // Дильтей В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 2004. С. 248. Ученику Дильтея Георгу Мишу принадлежит многотомная «История автобиографии»: Misch G. Geschichte der Autobiographie. 4 Bde. in 8 Teilbde. Leipzig; Frankfurt am Main, 1907—1969.
[2] Gusdorf G. De l’autobiographie initiatique à l’autobiographie genre littéraire // Revue d’histoire littéraire de la France. 1975. Vol. LXXV. № 6. P. 957—994.
[3] Idem. Conditions et limites de l’autobiographie // Formen der Selbstdarstellung. Analekten zu einer Geschichte des literarischen Selbstportraits. Festgabe für Fritz Neubert / Hgg. G. Reichenkron, E. Haase. Berlin, 1956. S. 105—123.
[4] Ibid. См. также: Idem. Les écritures du moi. Lignes de vie 1. P., 1990; Idem. Auto-bio-graphie. Lignes de vie 2. P., 1990.
[5] Pascal R. Design and Truth in Autobiography. Cambridge, MA, 1960.
[6] Lejeune P. Le pacte autobiographique. P., 1975. Cм. также: Лежён Ф. В защиту автобиографии. Эссе разных лет / Пер. и вступ. ст. Б. Дубина // Иностранная литература. 2000. № 4. С. 110—122; «Я в некотором смысле создатель религиозной секты…»: С Филиппом Лежёном, профессором Университета Пари-Нор, беседует Елена Гальцова // Иностранная литература. 2001. № 4. С. 257—264; Лежён Ф. От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария // Неприкосновенный запас. 2012. № 3 (83). С. 119—217.
[7] О теории самоинсценирования см.: Ästhetik der Inszenierung. Dimensionen eines gesellschaftlichen, individuellen und kulturellen Phänomens / Hgg. J. Früchtl, J. Zimmerman. Frankfurt am Main, 2001.
[8] Cм., например: Amstutz N. Autorschaftsfiguren. Inszenierung und Reflexion von Autorschaft bei Musil, Bachmann und Mayröcker. Köln, 2004; Heinen S. Literarische Inszenierung von Autorschaft. Geschlechtsspezifische Autorschaftsmodelle in der englischen Romantik. Tier, 2006; Schriftstellerische Inszenierungspraktiken. Typologie und Geschichte / Hgg. C. Jürgensen, G. Kaiser. Heidelberg, 2011.
[9] Iser W. Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main, 1991. S. 511.
[10] Историю изобретения этого понятия и его критическое рассмотрение см. в: Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction // НЛО. 2010. № 103. С. 12—40. См. также: Autofiktion und Medienrelität. Kulturelle Formungen des postmodernen Subjekts / Hgg. C. Ott, J. Weiser. Heidelberg, 2013; Auto(r)fiction. Literarische Verfahren der Selbstkonstitution / Hg. M. Wagner-Egelhaaf. Bielefeld, 2013.
[11] Барт Р. Сад. Фурье. Лойола. М., 2007. С. 16.
[12] На это указано уже в названии главы: «Linguistic turn Гёте».
[13] См.: Ман П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург, 1999.
[14] См.: Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998; Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М., 2019.
[15] Бернхард Т. Всё во мне…: Автобиография. СПб., 2006.
[16] Котелевская В.В. Томас Бернхард и модернистский метароман. Ростов-на-Дону; Таганрог, 2018. С. 31. Ср.: «Томас Бернхард (1931—1989) плодотворно впитал богатый опыт языкового скепсиса и кризиса австрийской культуры. Лингвофилософская основа его поэтологической системы изменила и природу работы текста» (Ташкенов С.П. Лингвофилософские основы в тексте Томаса Бернхарда: травма языка и коммуникации // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. 2009. Т. 5. С. 210).
[17] Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания / Пер. с англ. С.А. Никитина. Екатеринбург, 1998.
