Владимир Максаков («Историческая экспертиза»)
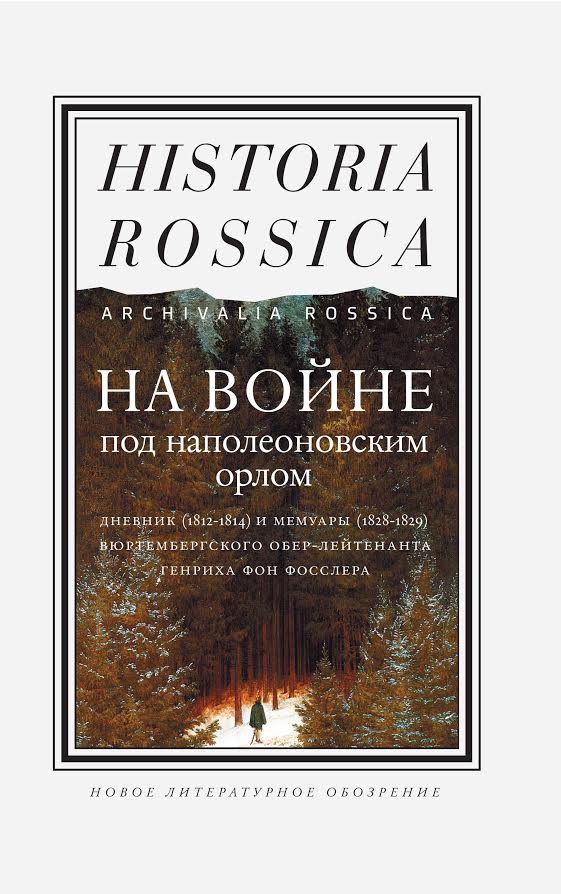 В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Archivalia Rossica» вышла очередная книга, посвященная Отечественной войне 1812 г. - дневник и воспоминания Генриха фон Фосслера, вюртембергского обер-лейтенанта, служившего в армии Наполеона, прошедшего кампании 1812 и 1813 гг. и проведшего почти год в русском плену.
В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Archivalia Rossica» вышла очередная книга, посвященная Отечественной войне 1812 г. - дневник и воспоминания Генриха фон Фосслера, вюртембергского обер-лейтенанта, служившего в армии Наполеона, прошедшего кампании 1812 и 1813 гг. и проведшего почти год в русском плену.
Свидетельства Генриха фон Фосслера — как и многих других участников русской кампании Великой армии — не воспринимаются как написанные в традиционном жанре записок иностранцев о России. Вюртембергский офицер не столько отмечает частное и общее, стремясь проверить на прочность мифы о полудикой стране, сколько пишет отчет о боевых действиях. Самой громкой критики у него удостаивается не Россия, а Польша, так и не ставшая, по его мнению, цивилизованной европейской страной. Любопытно, что в это время, еще далекое от «эпохи империй» (датируемой Эриком Хобсбаумом 1871-1914 гг.), очевидец явно испытывает ностальгию по империям. Так, Прусское королевство «цивилизует» Польшу, орел Французской империи взял под свое крыло Вюртемберг, да и Россия как противник достойна уважения в своем имперском качестве, при этом автор вспоминает дни величия единой Германии. Для Генриха фон Фосслера важно само ощущение своей сопричастности к Великой армии, хотя он и отмечает столкновения между французами и солдатами союзнических контингентов.
После битвы под Лейпцигом, предопределившей поражение Наполеона и победу союзников, Вюртемберг перешел на сторону победоносной коалиции, вновь обретя могущественного покровителя в лице Российской империи.
Практически на всем протяжении записей акцент ставится на впечатлении от военных действий, а не на переживании войны. Необходимо помнить, что автор — профессиональный военный, и собственно война не вызывает у него сильных чувств. Даже масштабы Бородинской битвы переданы с помощью лаконичного перечня погибших и раненых офицеров полка, которых в тот день убыло больше, чем в любом другом сражении, где участвовал Генрих фон Фосслер. Перед нами яркая иллюстрация «милитарного» дискурса, описывающего войну как нормальное состояние. Это своего рода особый мир, живущий по своим законам и правилам.
Нарушение привычного порядка вещей Генрих фон Фосслер отмечает в «неправильной» партизанской войне. Для обозначения ее участников он использует свой собственный неологизм «мужики-козаки», выламывающийся из традиционной милитарной терминологии и военного сознания. (Это, как сейчас принято говорить, «гибридное» состояние войны; можно также вспомнить, что профессиональный военный Петр Багратион именно в этой неправильности усматривал «национальный» характер Отечественной войны). Но окончательно привычный «мир» войны «по правилам» рушится в катастрофе, постигшей Великую армию во время отступления из России.
Война сама по себе не только пространство риска, но и поле различных возможностей, и, разумеется, вюртембержец не осуждает ее как явление: «было большой наградой, что наш полк особо определен императором Наполеоном для... авангарда большой армии. Мы это чувствовали и хорошо сознавали, что перед нами открывается широкое поле для стяжания славы и чести» (С. 130). Косвенным доказательством такого отношения автора к войне служит та очевидная легкость, с которой он поменял сторону своей службы. Хотя это можно объяснить и следованием им как верноподданным за политикой своего государства – Вюртемберга. Интересно вместе с тем отметить, что антимилитаристские идеи просветителей не коснулись Генриха фон Фосслера.
Дополнительный интерес некоторым страницам воспоминаний придает своеобразная работа автора с памятью. Иногда он забегает вперед и пишет, ориентируясь на то, что читателю знакомы описываемые события и известен их исход, благодаря чему он может встать на позицию не только мемуариста, но и историографа. В частности, это касается многочисленных «предчувствий» по поводу грядущей войны в России: «солдаты пели: “мы идем в Россию, братья”. Были нетерпеливые ожидания: хотя мы и не ждали в России золотых гор, но полагали все же, что найдем в изобилии красивейших и лучших лошадей (самое горячее желание кавалериста) и пропитание» (С. 126).
Военная профессия мемуариста отчасти объясняет и его установку на объективность. В воспоминаниях Генриха фон Фосслера почти нет личных оценок, так что складывается впечатление, что они были написаны как развернутый комментарий к сухому отчету дневника, который, в свою очередь, типологически близок к журналу боевых действий. Переживание войны как трагедии появляется и развивается в тексте по мере того, как Великая армия перестает существовать как единое целое, сплачивающее солдат и офицеров. Теперь они сами — и молодой вюртембергский лейтенант в их числе — должны быть ответственны за собственное выживание: «Ибо с этого времени я больше не составлял часть большой армии и я уже ничего не могу сказать о ней, но лишь о себе как отдельном путешественнике» (С. 166), то есть даже не как о комбатанте!
Пожалуй, одна из самых интересных методологических проблем, связанных с корпусом мемуаров о Наполеоновских войнах, состоит в том, что главная (и количественно, и качественно) часть воспоминаний написана средним командным составом. Эти офицеры были достаточно образованы, принимали самое активное участие в боевых действиях, а также не ставили перед собой цели оправдаться в тактических ошибках или военных преступлениях, что было свойственно мемуарам генералитета (к примеру, воспоминаниям маршала Эммануэля Груши). Именно «средний класс армии» оказался восприимчив и к трагедии войны, и к желанию осмыслить масштаб произошедших событий: «А и что толку, если бы у нас отняли ослеплявшие нас химеры? Не лучше ли, когда солдат радостно идет в бой, чем когда он в предвидении ужасных мук и лишений лишь нехотя следует своему ремеслу?» (С. 126). Косвенным доказательством точности этого взгляда служит то, что во французской художественной литературе, посвященной Наполеоновской эпохе, рассказ о войне зачастую ведется от лица «усредненного» офицера. Таковы «Неволя и величие солдата» Альфреда де Виньи, описания битвы при Ватерлоо в «Пармской обители» Стендаля и «Отверженных» Виктора Гюго, романы Эркманн-Шатриана — а в воспоминаниях вюртембергского офицера налет военной риторики оказывается уместен только в рассказе о Бородинской битве: «Мы построились в линию и выдвинулись вперед. Нас приветствовали несколько русских пуль, впереди повсюду кипела схватка. Мы стояли под градом картечи» (С. 150).
Перелом в сознании Генриха фон Фосслера связан с посещением Бородинского поля спустя месяц после битвы: «Бессчетное количество трупов ярко свидетельствовало о том, что игра тут шла серьезная и что смерть пожала немереную жатву. Ужасное зрелище долго не отпускало меня, а страшная сцена глубоко врезалась мне в душу. И в преклонном возрасте я буду помнить о ней с содроганием» (С. 154). И раз уж профессиональный военный оказывается потрясен случившимся, то здесь трудно не вспомнить слова Льва Толстого о моральной победе русской армии, одержанной при Бородино.
Единственное поле боя, кроме Бородина, которое описывает автор — Лютцен, где Наполеон одержал одну из своих последних и уже не таких решительных побед над союзниками. Несмотря на то, что следы битвы сами по себе внушают ужас, на это раз Генрих фон Фосслер воздерживается от такого уровня трагедийности, как при описании Бородинского поля. Возможно, в этом опять сказывается его военная самоидентификация: когда ему есть с кем разделить превратности ремесла войны, «неволю и величие солдата», так сразу же его переживания теряют личную остроту и глубину, и он вновь оказывается способен размышлять о войне прежде всего с профессиональной точки зрения. Чуть ли не единственным проявлением немецкого национализма у Генриха фон Фосслера становится специфическое наблюдение профессионального военного после битве при Лютцене: «У нас дисциплина соблюдалась хорошо, у французов же она была менее строгой, а итальянцы вообще безнаказанно позволяли себе любые эксцессы» (С. 189). Но еще до начала русской кампании 1812 г., по дороге к границе, вюртембержец обращает внимание на два других ратных поля, мимо которых он проезжал: при Торгау и Кунерсдорфе. В обоих случаях он хотел осмотреть памятные места поближе, но не смог из-за нехватки времени. Живя в наполеоновскую эпоху и служа в наполеоновской армии, автор вспоминает сражения Фридриха Великого. Возможно, для него это своего рода «компенсация» исторической памяти.
Нельзя не сказать о поистине исторических встречах Генриха фон Фосслера. Он несколько раз видел Наполеона, но, пожалуй, самым запоминающимся стал эпизод после Бородинской битвы: «По пути я прошел мимо императора. Он казался очень холодным и, вероятно, обещал себе блестящий успех» (С. 151). Эта по-военному лаконичная оценка согласуется со многими свидетельствами, оставленными французами в день Бородина, но привносит в хрестоматийный портрет Наполеона нежелание обнаруживать свои истинные чувства и мысли по поводу только что окончившегося сражения. На уже имевшееся представление ложится живое впечатление и о самом упорном противнике Наполеона, нанесшем ему в итоге смертельный удар — «фельдмаршале Вперед!», Гебхарде Леберехте фон Блюхере, князе Вальштаттском: «...нас передали эскадрону коричневых гусар, мы прошли слева от Баутцена через главную квартиру генерала фон Блюхера, где нас встретил верхом сам генерал в сюртуке, кивере, с длинной трубкой в зубах. Он задал мне несколько вопросов, высказавшись при этом жестко о борьбе южных немцeв против северных» (С. 190). В этой сцене многое символично: она происходит у места будущей жестокой битвы, к Блюхеру, служившему в полку «Черных гусар» (№ 5), пленных подводят следующие по старшинству «Коричневые гусары» (№ 6), а сам генерал предстает будто сошедшим с одной из многочисленных батальных картин эпохи — да и говорит на тему, болезненно острую для вюртембергского офицера, которую тот старательно избегает.
К мечтам о великой Германии Генрих фон Фосслер возвращается каждый раз, когда встречается с немцами. Несмотря на политическую раздробленность германских государств, он помнит о народной общности. Под его пером немцы становятся лучшими солдатами союзников в Великой армии, а население немецких земель – мерилом цивилизованности. В свою очередь, его критика Польши с националистических позиций отсылает к утрате Пруссией Варшавы и польских территорий. Он игнорирует и официальное наполеоновское название русского похода 1812 г. — «Вторая польская кампания» — словно не желая лишний раз упоминать о независимом польском государстве, Великом герцогстве Варшавском.
Как и во многих других свидетельствах об эпохе, вюртембергский офицер не может предложить никакого «плана» объединения Германии, и уж точно не представляет Рейнский союз тем ядром, вокруг которого могли собраться немецкие земли. О его слабости автор говорит прямо: французы «смотрели сверху вниз с известным гонором на рейнские союзные войска, а если те пропускали, то и издевались над ними» (С. 130). Вюртемберг занимал промежуточное положение между немецкими государствами, покорёнными Наполеоном – и теми, что пользовались всеми выгодами независимого союзника (к последним относились Бавария и Саксония). Благодаря тому, что Вюртемберг обладал некоторой самостоятельностью (и даже стал королевством), он мог выставить для похода на Россию формально собственный контингент, подчинявшийся верховному командованию Великой армии только во время боевых действий. Соответственно, и Генрих фон Фосслер пошел на военную службу добровольно, а не по призыву, что позволяло ему испытывать чувство равной сопричастности к великому предприятию Наполеона. Так, чтобы вписать свою часть в состав Великой армии, вюртембергский офицер практически всегда называет ее «большой армией», к которой примыкает и его полк.
Некоторые черты сознания мемуариста в своём роде историчны — немец погружен в прошлое своей страны, он может восхищаться им и превозносить его, но путей возврата к славным дням минувшего не видит: «Живописные руины знаменитых замков... напоминают о золотом веке немецкого могущества» (С. 126). Удивительным образом этот историзм совпадает с настроениями немецких романтиков, идеализировавших старину, но не предлагавших никаких определённых мер для воссоздания Германии. В схожих с романтиками выражениях Генрих фон Фосслер описывает и традиционные «романтические» места Фридриха Гёльдерлина (Швабию) и Новалиса (Йену и Саксонию), при этом словоупотребление («романтичное положение города») указывает на известный круг чтения, очевидно, сентиментальной литературы. Язык военной казуистики приходит на помощь, когда надо скрыть масштабы потерь среди офицерского состава вюртембергской армии: «На параде было объявлено о крупном производстве по службе, часть в котором перепала и мне: я был произведен в обер-лейтенанты» (С. 179) — огромная убыль офицеров прячется за словами о наградах, продвижении по службе и новых назначениях и чинах.
Яркой иллюстрацией прусского национализма служит, к примеру, авторское наблюдение о том, «как озлоблены пруссаки на тех немцев, которые еще воюют в рядах французов» (С. 185). Речь идет уже о кампании 1813 г., когда становится понятно, что дело Наполеона проиграно. Однако даже в этих условиях Генрих фон Фосслер не задумывается, на чьей стороне он воюет и почему. Образ Вюртемберга как союзника Французской империи оказывается важнее для его идентификации, чем химерические фигуры единой Германии. Дальше — больше: оказавшись в плену, автор «тщательно скрывал, что он вюртембержец, предпочитая, чтобы его принимали за француза» (С. 192). Собственно, и плен переживается им не так трагично, как отступление из России и разложение Великой армии. Стигматизация, оставленная русским походом 1812 г., наложила отпечаток на поведение Генриха фон Фосслера, который жалуется на больной желудок и пошатнувшееся здоровье, но и получает особого рода уважение в качестве выжившего в катастрофе: «ни один русский не испытывал ко мне более враждебности после того, как я признался, что проделал русскую кампанию» (С. 190).
Военная риторика оказывается бессильна прежде всего в описании боевых действий. При чтении мемуаров Генриха фон Фосслера возникает ощущение, что он сам лично так и не принял действительного участия ни в одном бою. Особенно ярко это проявляется в отсутствии деталей при описании сражений Великой армии с российскими войсками: их явно недостаточно, а сами батальные полотна уступают картинам быта и нехитрым авторским размышлениям. Думается, что к этому времени ещё не сложился язык описания боевых действий от первого лица. Это подтверждается и тем, что, как отмечалось, трагичность войны проявляется только в описании отступления и разложения Великой армии, когда распад армии как единого целого как будто освобождает и язык. Любопытным в этом смысле является и название воспоминаний: «Превратности моей судьбы в 1812, 1813 и 1814 годах». Кроме указания на годы военных кампаний, в этом заглавии нет и следа милитарного дискурса, куда больше он напоминает традицию плутовских романов.
Особый интерес к дневнику и воспоминаниям Генриха фон Фосслера для русского читателя придает следующая заметка: «28 мая... Варварство русского полковника Крукеникова в отношении 2 военнопленных французов» (С. 104). Вольфганг Мерле предлагает читать вместо «Крукеникова» — «Крупен(н)икова», что сразу повышает ценность этого свидетельства. Дело в том, что, согласно историческому преданию, М.И. Кутузов, лежа на смертном одре в городке Бунцлау, имел свидание с императором Александром I 15 апреля. Между ними якобы состоялся следующий разговор: «Прости меня, Михаил Илларионович!» — «Я прощаю, Государь, но Россия вам этого никогда не простит». Эти слова были переданы гофмейстером Толстым, который утверждал, что слышал их от единственного свидетеля исторической сцены — некоего Крупенникова, которого впоследствии так и не смогли разыскать. Теперь же, благодаря упоминанию у Генриха фон Фосслера, хотя бы историчность фигуры Крупенникова может быть доказана.
Не со всеми положениями концептуального введения к книге можно согласиться. Так, характеризуя положение вюртембергского контингента, Вольфганг Мерле, публикатор и комментатор издания, пишет: «Задействование в качестве арьергарда в значительной степени стало причиной того, что уже в летние месяцы поход для вюртембергских войск принял фатальный характер» (С. 18). В действительности же отвод вюртембергских и других союзнических контингентов в арьергард спасал их от участия в боях с российской армией. Также трудно принять утверждение, что «Наполеон принципиально именно проблематичные задачи поручал прежде всего войскам союзников». Как известно, на всех ключевых участках Бородинского сражения (Багратионовы флеши и Курганная батарея) успеха добились собственно французские части, в составе которых были ветераны из первых трех корпусов Великой армии, где служили преимущественно этнические французы. Некорректно назван титул маршала Мишеля Нея — «князь Московский»: все-таки битва при Бородино, за которую он его и получил, была не у стен Москвы, а на берегах Москва-реки. Также непонятно, почему переводчики берут в кавычки такие устоявшиеся в русскоязычной традиции исторический названия, как Битва трех императоров (при Аустерлице 2 декабря 1805 г.) или Битва народов (под Лейпцигом 16-19 октября 1813 г.). Но эти замечания только иллюстрируют огромную работу, проделанную Вольфгангом Мерле, Денисом Сдвижковым, Юрием Коряковым и Андреем Поповым, благодаря усилиям которых на русском языке появился еще один ценный источник о великой эпохе 1812 г.
Владимир Максаков
