Французское пополам с нижегородским (Дмитрий Бавильский, The Art Newspaper Russia)
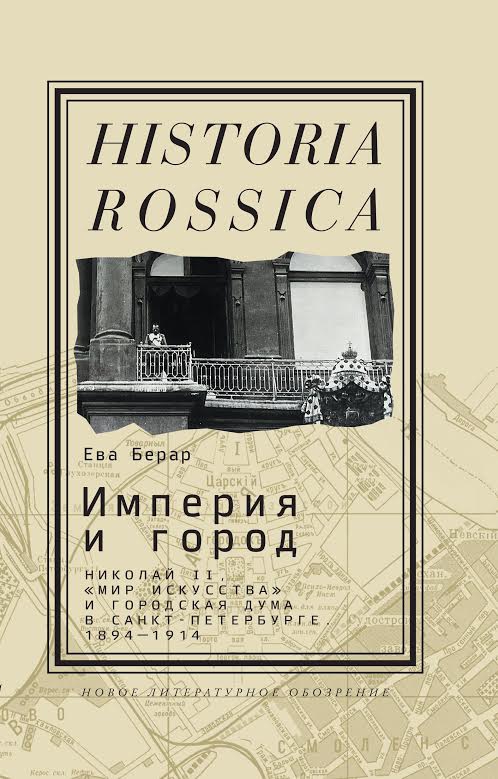 Генезис знаменитого «Мира искусства» французская исследовательница Ева Берар выводит из одного скандала, случившегося во время подготовки Нижегородской промышленной и художественной выставки 1896 года. Инициировал его меценат Савва Морозов, заручившийся поддержкой Сергея Витте, тогдашнего министра финансов Российской империи и будущего главы российского кабинета министров. С его помощью Морозов подбил на оформление официального павильона Академии художеств стенными панно Михаила Врубеля. Художник сделал тогда свои знаменитые «Принцессу Грезу» и «Микулу Селяниновича», а Савва Морозов даже не поставил Академию художеств, ответственную за культурную программу выставки, в известность. Та, разумеется, взбунтовалась. Врубелевские панно «чудовищны» — телеграфирует представитель академии из Нижнего в Петербург. «Необходимо убрать. Ждем жюри». Скандал доходит до Николая II, решающего лично посмотреть опальные полотна, тем более что императрица благоволит модерну. Император «изволил найти желательным подвергнуть произведения Врубеля суждению лучших художников, соблаговолив при этом указать на двух, Васнецова и Поленова». Однако еще до приезда императорской четы на выставку врубелевские холсты сворачивают, дабы избежать открытого конфликта между старорежимным президентом Академии художеств и прогрессивным министром финансов. Морозов и тут не смиряется. На свои средства рядом с павильоном Крайнего Севера он за пару дней выстраивает деревянный сарай с большими окнами, на крыше которого красуется надпись «Картины Врубеля». «Вход на эту частную выставку, — пишет Берар, — был свободным, давка — неимоверной, но большинство посетителей были настроены глумливо и враждебно».
Генезис знаменитого «Мира искусства» французская исследовательница Ева Берар выводит из одного скандала, случившегося во время подготовки Нижегородской промышленной и художественной выставки 1896 года. Инициировал его меценат Савва Морозов, заручившийся поддержкой Сергея Витте, тогдашнего министра финансов Российской империи и будущего главы российского кабинета министров. С его помощью Морозов подбил на оформление официального павильона Академии художеств стенными панно Михаила Врубеля. Художник сделал тогда свои знаменитые «Принцессу Грезу» и «Микулу Селяниновича», а Савва Морозов даже не поставил Академию художеств, ответственную за культурную программу выставки, в известность. Та, разумеется, взбунтовалась. Врубелевские панно «чудовищны» — телеграфирует представитель академии из Нижнего в Петербург. «Необходимо убрать. Ждем жюри». Скандал доходит до Николая II, решающего лично посмотреть опальные полотна, тем более что императрица благоволит модерну. Император «изволил найти желательным подвергнуть произведения Врубеля суждению лучших художников, соблаговолив при этом указать на двух, Васнецова и Поленова». Однако еще до приезда императорской четы на выставку врубелевские холсты сворачивают, дабы избежать открытого конфликта между старорежимным президентом Академии художеств и прогрессивным министром финансов. Морозов и тут не смиряется. На свои средства рядом с павильоном Крайнего Севера он за пару дней выстраивает деревянный сарай с большими окнами, на крыше которого красуется надпись «Картины Врубеля». «Вход на эту частную выставку, — пишет Берар, — был свободным, давка — неимоверной, но большинство посетителей были настроены глумливо и враждебно».
Разумеется, Михаил Врубель расстроен и смиряется с неудачей, а вот Сергей Дягилев бунтует. «Его „Мир искусства“ — это проект, задуманный и исполняемый исключительно людьми творческими, писателями и художниками», без участия политиков и влиятельных богатеев. Впрочем, как показывает Ева Берар в своей замечательной книге «Империя и город. Николай II, „Мир искусства“ и городская дума в Санкт-Петербурге 1894–1914», без политики не обошлось даже в этом, казалось бы, самом эстетски радикальном и внешне будто бы отвлеченном от злобы дня художественном объединении.
Одну из глав исследования, переведенного с французского, Берар посвящает «культу старого Петербурга», активно насаждавшемуся мирискусниками и ставшему основой главного петербургского мифа — об инфернальности и странности этого города. Мирискусники изучали и славили архитектуру и искусство XVIII века не для того, чтобы таким образом убежать от вязкой буржуазной повседневности, зарождавшейся внутри остаточного самодержавия, но чтобы включить русскую культуру в общеевропейский контекст. Окно в Европу, пробитое Петром и расширенное при императрицах, связало Россию с «просветительским проектом»; Санкт-Петербург и стал воплощением, как архитектурным, так и государственным, этой связки, оборванной, по Берар, восстанием декабристов. После их выступления наступила эпоха реакции и упадка, а императорское внимание переключилось на Москву. Следующими этапами отторжения императорской семьи от Санкт-Петербурга стало убийство Александра II и покушение на Александра III, способствовавшие переселению Николая II и всего царского двора, с ритуалами, церемониями, интригами и ключевыми игроками российской власти, во дворцы-усадьбы. Санкт-Петербург, оставленный без высочайшего надзора, между тем рос, задыхаясь от общественного бесправия, канализации и водопровода.
Книга Евы Берар — хроника политической и экономической самоорганизации российской столицы, основанной на трех реперных точках. Это, во-первых, особенности культурного строительства петербургского мифа, возникающего в искусстве и литературе. Во-вторых, это еще и специфика императорского отношения к Санкт-Петербургу, избегавшего опасного города и, по всей видимости, не любившего его. Особенно после Кровавого воскресенья (исследование Берар, впрочем, протянуто до Первой мировой войны, переименования столицы в Петроград и смуты, посеянной здесь Григорием Распутиным). В-третьих, «Империя и город» детально описывает попытки превращения города в полноценное «общественное пространство» не только повседневной жизни, но и полемики о судьбах страны. Причем как сверху (медленная демократизация, связанная с деятельностью органов самоуправления, постепенно отвоевывающих политическую территорию у старорежимного самодержавия, и с решением банальных санитарных проблем), так и снизу. Ведь Санкт-Петербург был крупнейшим российским мегаполисом, испытывавшим значительное влияние пришлых людей — крестьян, становившихся рабочими и, таким образом, исподволь, но постоянно менявших начинку городской культуры.
Какие-то темы (хроники Кровавого воскресенья) французская исследовательница решает в духе солженицынского монтажа из цитат, какие-то реконструирует по газетам, документам и воспоминаниям. Особенно захватывающими оказываются главы, связанные с деятельностью Александра Бенуа и Сергея Дягилева, чьи творческие и общественные инициативы заложили фундамент Серебряного века в том многообразии и глубине, которые превратили Петербург в столицу русского искусства и главный метафизический проект всей русской культуры. Эта изысканная, аккуратно написанная, с детальным погружением в особенности политических процессов (в которых находится масса перекличек с текущей повесткой дня), книга показывает, как противоречиво и чаще всего случайно, из самого натурального бытового сора, складывалась судьба не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Как все складывалось и одновременно разрушалось, растаскиваемое в разные стороны разнонаправленными общественными и политическими силами, опираясь в своем развитии на частную инициативу отдельных отчаянных харизматиков.
«Империя и город», первоначально написанная по-французски и вышедшая четыре года назад во Франции, — это тоже личная инициатива отдельного зарубежного историка, бескомпромиссно погруженного в наш затейливый и сложный контекст, без каких бы то ни было скидок на чужеродность авторского взгляда. Видно, как искренне Ева Берар любит не только Санкт-Петербург, но и всю противоречивую русскую цивилизацию, выражением которой город на Неве и является.
