Путешествия с дилетантом в поисках Мандельштама (Игорь Ратке, Prosodia)
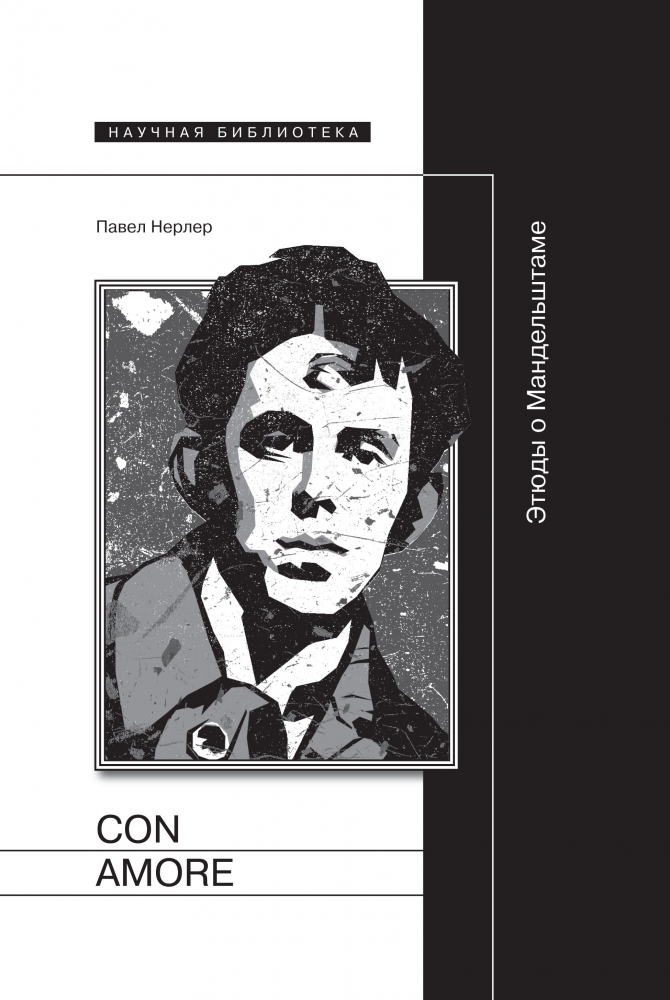 «Словарь синонимов», наткнувшись на слово «дилетант», отсылает к слову «любитель». Так что ничего уничижительного в таком определении нет, благо и название книги отсылает к тому же корню. А уж подбирать характеристики, связанные с природой любви и её воздействием на остальной мир, можно до бесконечности: она-де слепа, при этом движет солнце и светила, и т.д. Книга Павла Нерлера, одного из ведущих отечественных мандельштамо… нет, здесь уместнее будет не суховатое «ведов», а всё-таки сердечное «любов» — монументальное подведение итогов почти что полувековых штудий, охватывающих, как кажется порой, неподъёмно широкий круг тем, связанных с Мандельштамом. И лишний повод поразмышлять о литературоведческом дилетантизме, его плюсах и минусах.
«Словарь синонимов», наткнувшись на слово «дилетант», отсылает к слову «любитель». Так что ничего уничижительного в таком определении нет, благо и название книги отсылает к тому же корню. А уж подбирать характеристики, связанные с природой любви и её воздействием на остальной мир, можно до бесконечности: она-де слепа, при этом движет солнце и светила, и т.д. Книга Павла Нерлера, одного из ведущих отечественных мандельштамо… нет, здесь уместнее будет не суховатое «ведов», а всё-таки сердечное «любов» — монументальное подведение итогов почти что полувековых штудий, охватывающих, как кажется порой, неподъёмно широкий круг тем, связанных с Мандельштамом. И лишний повод поразмышлять о литературоведческом дилетантизме, его плюсах и минусах.
Сам автор не без кокетства (вот оно, кажется, пожизненный и не самый приятный спутник дилетантизма) уподобляет свою книгу букету (с. 8), подчёркивая, что организована она благодаря связи «скорее сюжетной, чем систематической». Что ж, подхватывая предложенную метафору, можно сказать, что букет получился весьма разнородным, хотя и составленным весьма искусно и симметрично. Композиция проста и логична: основной массив текста обрамлён двумя скромными по объёму и подчёркнуто личностными разделами «Con amore» и «Слово и бескультурье». Первый соотносится с заглавием всей книги (последней на данный момент в библиографии Павла Нерлера) и носит наиболее биографический характер: это краткая история любви, от первого знакомства до апогея взаимоотношений. Здесь много подробностей, вносящих свежие и прелюбопытные штрихи в драматичную историю возвращения самого имени поэта, его биографии и его произведений, в отечественную литературу. Раздел же «Слово и бескультурье» рифмуется с памятной книгой «Слово и культура», ставшей в 1987 году настоящим потрясением: впервые за несколько десятилетий к отечественному читателю возвращался Мандельштам-критик, Мандельштам-теоретик искусства, Мандельштам-эссеист. Это, пожалуй, самый необязательный из цветов нерлеровского букета, ибо содержащиеся в составляющих раздел четырёх текстах сетованияпо поводу сегодняшнего упадка нравов и культуры вполне могут вызывать сочувствие и согласие, но в большинстве из них само имя Мандельштама смотрится слишком далековатым поводом для разговора.
Так что основа букета — три центральных раздела: «Солнечная фуга» (наблюдения и анализы, связанные собственно с творчеством Мандельштама), «Мандельштамовские места» и «Современники и современницы» (тут названия говорят сами за себя). «Солнечная фуга», впрочем, посвящена не только текстам самого героя книги, но и его отражениям в творчестве других — например, в рассказах Варлама Шаламова «Шерри-бренди» и «Сентенция». Здесь много тонких наблюдений, вроде проницательнейших характеристик композиционных особенностей «Путешествия в Армению», позволяющих убедиться в исключительно прочной мотивной структуре этого внешне импрессионистически привольного очерка. Есть и заметки, имевшие в своё время публикаторскую ценность (скажем, «“Мяукнул конь и кот заржал…”: шуточные стихи»), но теперь воспринимающиеся как не очень важные (к тому же в этой заметке Нерлер упорно, как повелось ещё со времён подготовленного им «чёрного» двухтомника 1990 года, продолжает принимать за чистую монету рассказанный Валентином Катаевым в книге «Алмазный мой венец» эпизод совместного с Мандельштамом сочинения агитстихов, скорее всего, как и большая часть «Венца», являющийся плодом буйной катаевской фантазии). Наконец, некоторые работы этого раздела заставляют забыть о том, что автор — не профессиональный филолог. Так, исследование «Метрические волны и композиционные принципы позднего Мандельштама», основанное на фундаментальном наборе наблюдений над метрической организацией воронежских стихотворений, позволяет с достаточной обоснованностью делать выводы о смысловом и образном единстве этого самого «тёмного» периода мандельштамовского творчества, давая возможность видеть в «Воронежских тетрадях» не разрозненное собрание текстов, а книгу стихов в том значении, которое закрепилось за этим словосочетанием с символистской эпохи.
И в то же время в этом разделе с глубокими и тонкими работами соседствуют и другие, порой не уступающие первым по основательности и широте используемого материала, но относящиеся уже к другой стороне книги Павла Нерлера — не к осмыслению, изучению, истолкованию Мандельштама, а к, скажем так, либеральному мифу о Мандельштаме. Этот миф хорошо известен, он рождался ещё в 1960-х годах, у его колыбели стояли Ахматова и Надежда Мандельштам, его пестовали и утверждали очень разные, порой вполне далёкие от либерализма люди — от Эренбурга до Аверинцева. Миф этот был неизбежен, его готовили и сама судьба поэта, и его личность, и — даже — его творчество. Здесь не место разбираться в исторической обусловленности этого мифа, но обойти его вниманием никак нельзя, ибо без него уже непредставимо само имя Осипа Мандельштама. В основе мифа — история о трагическом противоборстве поэта и априорно враждебного ему мира, мира, приобретшего в данном изводе черты советского строя и олицетворённого фигурой Тирана — Сталина.
Попадая в мифологическое пространство, любовь слепнет. Мандельштам для Нерлера прав во всём и всегда. Так происходит в одном из наиболее объёмных текстов «Солнечной фуги» —»Битва под Уленшпигелем», посвящённом известному сюжету биографии Мандельштама —конфликту с А. Горнфельдом по поводу перевода «Легенды об Уленшпигеле». Этот конфликт прекрасно знаком всем читателям Мандельштама по ослепительно яростному и ослепительно же несправедливому же рассказу о нём в «Четвёртой прозе». И.то, как повествует об этом конфликте Нерлер, великолепно иллюстрирует слепую самоотверженность любви в отстаивании своей правоты.
Оппоненты Мандельштама в этом, признаться, рисующем всех его участников в не самом приглядном виде противостоянии для Нерлера кругом неправы. Куда девается в таких случаях его наблюдательность и чуткость к слову! Даже небрежность нет-нет да и проникнет на страницы книги —например, ответственный редактор «Литературной газеты» в 1929-30 годах Канатчиков на одной и той же с. 97 именуется то Сергеем, то Семёном. Вот находит Нерлер в письме критика и историка литературы Абрама Дермана слова о том, что «Уленшпигель» — «оброчный мужик» Горнфельда, и торжествует: «фундаментальная для этой истории констатация» (с. 92), штрих, вполне, мол, наглядно рисующий меркантильность мандельштамовского противника. А ведь само это выражение — из Пушкина. Именно своим «оброчным мужиком» назвал Пушкин Пугачёва 20 января 1835 года в письме Павлу Нащокину, и вряд ли при этом он стыдился столь откровенного признания. Дерман, литературовед весьма эрудированный, наверняка сознательно воспользовался этим пушкинским шуточным образом. Но Пушкину можно, а Горнфельду нельзя?
И так обстоит дело не только в «Битве под Уленшпигелем». Ещё в первом разделе книги Нерлер, говоря об издательской судьбе Мандельштама, мимоходом поминает «фантасмагорическую историю и сюрреалистическую переписку с В.Д. Бонч-Бруевичем относительно приобретения мандельштамовского архива Государственным литературным музеем. Автор бессмертного опуса “Ленин на ёлке в Сокольниках” не только ни в грош (буквально!) не ценил архив и всё наследие бывшего акмеиста, он считал себя ещё обязанным объяснить фондообразователю свои мотивы и свои критерии» (с. 42).
Один известный шаг сделан — и Бонч-Бруевичу ставится в строку всё. При этом неправда то, что Бонч «в грош не ценил» мандельштамовский архив — пятьсот рублей он за него всё-таки предлагал. Что криминального в том, что директор Литмузея объясняет одному из потенциальных фондообразователей свои мотивы и критерии (кстати, письмо Бонча носит вполне уважительный характер и явно щадит чувства адресата)?
И причём тут «Ленин на ёлке в Сокольниках»? А архив Андрея Белого Бонч-Бруевич оценил в 10 тысяч — и что, тут же перестал быть «автором бессмертного опуса»? И если уж на то пошло, оценка производилась коллегиально, цифру называл один из крупнейших отечественных филологов Н.К. Гудзий, и голос Бонча был важным, но не решающим. Но миф не знает полутонов и нюансов. Можно не утруждать себя аналитичностью и доказательностью. Спору нет, судьба Мандельштама трагична до предела, и повествующий о последних днях его жизни в лагере тот же «Одиннадцатый барак» производит совершенно неизгладимое впечатление. Но повод ли это для не заботящейся о достоверности и точности идеализированной картинки?
Миф и в дальнейшем даёт о себе знать — не только в конкретных оценках и высказываниях, но и в построении книги. Вот ещё один цветок из нерлеровского букета — раздел «Современники и современницы». Пятнадцать этюдов о тех, кто был так или иначе связан с Мандельштамом — через судьбу (Надежда Мандельштам, Наталья Штемпель, Ольга Ваксель), через творчество (Ахматова, Валентин Парнах), через посмертное воскрешение (Николай Харджиев). Здесь проявляется оборотная сторона всякого, даже самого талантливого, дилетантизма — отсутствие самодисциплины, неумение отбирать и отказываться. Очерки о Ходасевиче, Бенедикте Лившице, том же Парнахе включены в книгу о Мандельштаме по совершенно натянутому признаку — с одним был знаком, книгу другого оценил, третьего вроде бы вывел в «Египетской марке». Но сами очерки ничего нового об этих фигурах не содержат, представляя собой эмоциональный, но поверхностный пересказ их биографий и характеристики творчества. Их связь с Мандельштамом не осмыслена и не раскрыта, хотя в случае с тем же Лившицем возможности для более глубокого анализа именно творческих перекличек явно наличествуют. Но Нерлер упускает их, зато, одержимый стремлением мерить своего героя самой высшей меркой, не замечает, как впадает в совершенно зощенковское предположение, касаясь Тютчева: «…Мандельштамовские родители вполне могли бы быть с ним лично знакомыми: ведь он умер в Царском Селе всего за 18 лет до того, как Осип Мандельштам в Варшаве родился» (с. 506). Словом, «Моя же бабушка, ещё того чище, родилась в 1836 году. То есть Пушкин мог её видеть и даже брать на руки. Он мог её нянчить, и она могла, чего доброго, плакать на руках, не предполагая, кто её взял на ручки. Конечно, вряд ли Пушкин мог её нянчить, тем более что она жила в Калуге, а Пушкин, кажется, там не бывал, но всё-таки можно допустить эту волнующую возможность». Вот только хотя Царское Село — городок маленький, но круг общения у Фёдора Ивановича и Эмиля Вениаминовича был всё-таки несколько не один и тот же. Словом, многим этюдам из этого раздела очень не помешал бы строгий редактор — ещё на стадии подготовки книги.
Сказанное относится и к разделу «Мандельштамовские места», в котором тоже отменнейшие удачи соседствуют с этюдами, непонятно зачем включёнными в книгу. Великолепен текст «“На западе, у чуждого семейства…”: семестр в Гейдельберге» — одновременно вдохновенный и предельно скрупулёзный, полный вкусных подробностей очерк о быте и нравах знаменитого германского университетского города в пору мандельштамовского недолгого пребывания в нём.
Менее захватывающ, но не менее фундаментален очерк о Париже. И тут же — совершенно необязательный этюд «“Город, знакомый до слёз…”: Мандельштам и Петербург»: ну как о Мандельштаме — и без Петербурга? Поэтому — для галочки? — следует очень краткий пересказ общеизвестного с хрестоматийными цитатами. Очерк о мандельштамовском Воронеже ценен детальными сведениями о круге общения Мандельштама в этом городе, но решительно ничего мы из него не узнаем о самом Воронеже — скажем, о том, каким он был в пору мандельштамовской ссылки. А ведь город, прямо скажем, не из последних. Неожиданная, на первый взгляд, удача — очерк «“Американ-бар”: Мандельштам и Америка, Америка и Мандельштам». Неожиданная — потому что вроде бы где Мандельштам и где Америка? Но Нерлер, опираясь на несколько мандельштамовских текстов, даёт тонкий и точный анализ проблемы, выявляя культурологический её пласт. И тут же вновь срывается в либералистское мифотворчество,походя бросая: «Иначе говоря, Мандельштам ощущал себя причастным к своеобразной чаадаевской традиции — традиции тех, кто, побывав на Западе, нашёл в себе достаточно сил, чтобы не остаться там навсегда и вернуться» (с. 352). То есть возвращение на родину — это подвиг, это неслыханное напряжёние сил. Надо ли говорить, что к Чаадаеву это не имеет никакого отношения — ни в прямом, ни в переносном смысле, да и к Мандельштаму не так уж применимо.
Отдельная тема — приложенные к основному корпусу текстов выдержки из дневников автора за 1981 — 1984 годы, а именно та их часть, которая связана с издательской, околоиздательской и другой посмертной судьбой мандельштамовского наследия. Они необычайно интересны и полны незаменимых подробностей (вроде, например, беседы с переводчиком Игорем Поступальским).
Словом, книга в целом являет собой крайне неровный сборник текстов, сочетающий завидные взлёты с удручающими падениями. Одно из неизбежных проявлений дилетантизма в чём бы то ни было — неготовность пожертвовать тем, что порой только кажется важным. И здесь книге бы никак не помешал взгляд профессионала — издателя или редактора, бестрепетно сократившего бы слабые и необязательные её главки. Сборник потерял бы в весе, но выиграл бы в весомости. И уж совсем не стоило бы автору включать в книгу отрывки из собственных стихотворений. Уж больно они проигрывают в контексте остальных поэтических цитат.
