Сквозь свидетельство (Денис Ларионов, «Лехаим»)
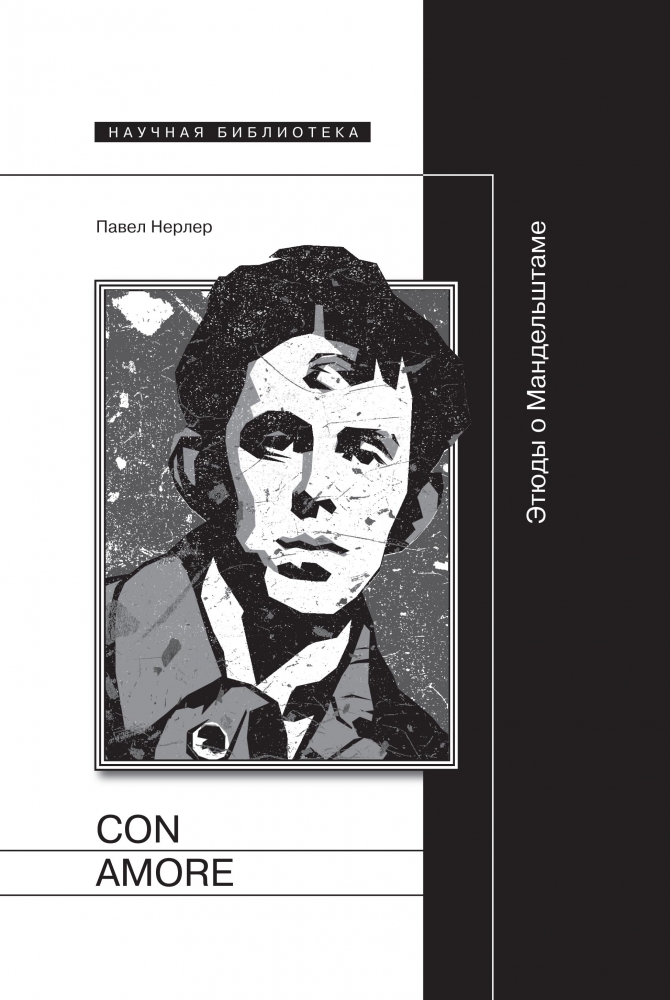 Имя Павла Нерлера знакомо каждому, кто интересуется историей поэзии прошлого века и, конечно же, творчеством О. Э. Мандельштама. Некогда благословленный вдовой поэта, Нерлер принимал участие в подготовке многих его сборников, в том числе и двухтомного и четырехтомного собраний сочинений. Многие из них подготовлены в тесном сотрудничестве с выдающимися филологами и историками литературы: среди них такие бесспорные имена, как Сергей Аверинцев, Михаил Гаспаров etc. Работа со столь крупными специалистами задает высокую, почти недостижимую планку: трудно придумать большее счастье и муку для любого исследователя. Но существует и обратная сторона подобного сотрудничества: подверженность разного рода мифам о поэте и настойчивое стремление его, так сказать, канонизировать. Надо сказать, что самому Михаилу Гаспарову — ставившему во главу угла научную этику — подобный подход был чужд: для подтверждения этого достаточно вспомнить, сколько шума среди филологов наделали его статьи о поздних стихах Мандельштама, разрушившие множество интеллигентских мифов.
Имя Павла Нерлера знакомо каждому, кто интересуется историей поэзии прошлого века и, конечно же, творчеством О. Э. Мандельштама. Некогда благословленный вдовой поэта, Нерлер принимал участие в подготовке многих его сборников, в том числе и двухтомного и четырехтомного собраний сочинений. Многие из них подготовлены в тесном сотрудничестве с выдающимися филологами и историками литературы: среди них такие бесспорные имена, как Сергей Аверинцев, Михаил Гаспаров etc. Работа со столь крупными специалистами задает высокую, почти недостижимую планку: трудно придумать большее счастье и муку для любого исследователя. Но существует и обратная сторона подобного сотрудничества: подверженность разного рода мифам о поэте и настойчивое стремление его, так сказать, канонизировать. Надо сказать, что самому Михаилу Гаспарову — ставившему во главу угла научную этику — подобный подход был чужд: для подтверждения этого достаточно вспомнить, сколько шума среди филологов наделали его статьи о поздних стихах Мандельштама, разрушившие множество интеллигентских мифов.
В свою очередь, книга «Con amore» склонна потакать подобным мифам: например, за счет своеобразной интонации элементы мифа встречаются почти во всех разделах книги, особенно усиливая свое действие в тех местах, где рациональное объяснение пасует (а в жизни Мандельштама, как известно, подобных моментов было немало). Это тем более странно, так как автор приводит огромное количество фактов, многие из которых не столь известны: трудно переоценить усилия Нерлера в их сборе и систематизации. Но, выкладывая читателю обширный массив фактографического материала, автор совмещает их со всем известными размышлениями о великом поэте и его апостолах, чья значимость определяется лишь степенью участия в публикации его наследия (так, действия Сергея Рудакова и Николая Харджиева проинтерпретированы Нерлером — вслед за Н. Я. Мандельштам — как «извращение миссии»). Можно сказать, что повествовательное мастерство автора делает из попавших в неординарные обстоятельства неоднозначных персонажей трогательных существ, отрабатывающих свою культурную роль. (При этом все те, кто предлагает альтернативные версии развития события — Эмма Герштейн, например, — допускаются в текст лишь дозированно.) Но в ситуации с О. Э. такой трюк не проходит: иллюстрацией этого является иронический анализ Нерлером лицемерного предисловия Дымшица к советскому изданию Мандельштама. В какой‑то момент начинает сопротивляться сам материал, и тогда слова Нерлера становятся неразличимыми: это относится, например, к главе о любовном треугольнике между О. Э., Н. Я. и Ольгой Ваксель (и Владимиром Татлиным, который периодически придавал этой ситуации форму прямоугольника). Ярость Надежды Яковлевны, не утихшая и через тридцать лет по истечении событий, говорит нам о сложном человеческом рисунке поэта и его спутницы жизни больше, чем какие бы то ни было комментарии.
Неоценимой заслугой Нерлера является систематизация фактов о последних месяцах жизни Мандельштама, проведенных в лагере «Вторая речка» под Владивостоком: с ними вновь контрастирует выбранная автором размеренная интонация, которая скорее подошла бы роману, чем документальному повествованию. Тем не менее читать эти строки с холодной головой просто невозможно: опираясь на свидетельства сокамерников поэта (собранные, по большей части, Надеждой Яковлевной), Нерлер рисует картину все более обостряющегося безумия в невозможных, нечеловеческих условиях. Эти фрагменты настолько поразительны, что какой бы то ни было комментарий — быть может, кроме философского, который мог бы написать Теодор Адорно или Джорджо Агамбен, — оказывается здесь излишним. Как известно, в последние месяцы своей жизни Мандельштам сочинил несколько стихотворных фрагментов, самым известным из которых является
Черная ночь, душный барак,
жирные вши…
Даже на самый поверхностный взгляд, эти осколки — которые могут сопротивляться атрибуции их как стихотворных — перекликаются с текстами Яна Сатуновского и Игоря Холина. Помимо восстановления истины и историко‑литературного расследования, Павел Нерлер подводит внимательного читателя к описанию той точки, где меняется авторская антропология и субъект письма. Он не решается на спекулятивные размышления на этот счет (они могли бы стать «извращением миссии»), но бессознательно выстраивает свое повествование таким образом, что подобные вопросы возникают сами собой.
