
Как создавались образы Ленинградской блокады: к выходу книги Татьяны Ворониной «Помнить по-нашему»
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. К ее годовщине «НЛО» опубликовало исследование, призванное ответить на вопрос, как и в силу каких механизмов мы привыкли помнить об одной из величайших трагедий нашей истории. Что и почему вытесняется из памяти об этом событии, а что бытует в ней на правах самоочевидного, морально должного и эстетически допустимого?
В книге «Помнить по-нашему» историк Татьяна Воронина показывает, что общественные представления о блокаде были во многом предопределены соцреалистическим каноном: опубликованные в послевоенном СССР художественные тексты на эту тему создавались с соблюдением особых правил описания советской реальности, что повлияло и на исторические сочинения. Автор также анализирует, как сложившиеся язык и форма рассказа о прошлом были восприняты общественным движением блокадников и инструментализированы средствами политик памяти.
К выходу книги мы публикуем предисловие, в котором Татьяна Воронина объясняет, когда и почему начала работать над темой рецепции блокады.
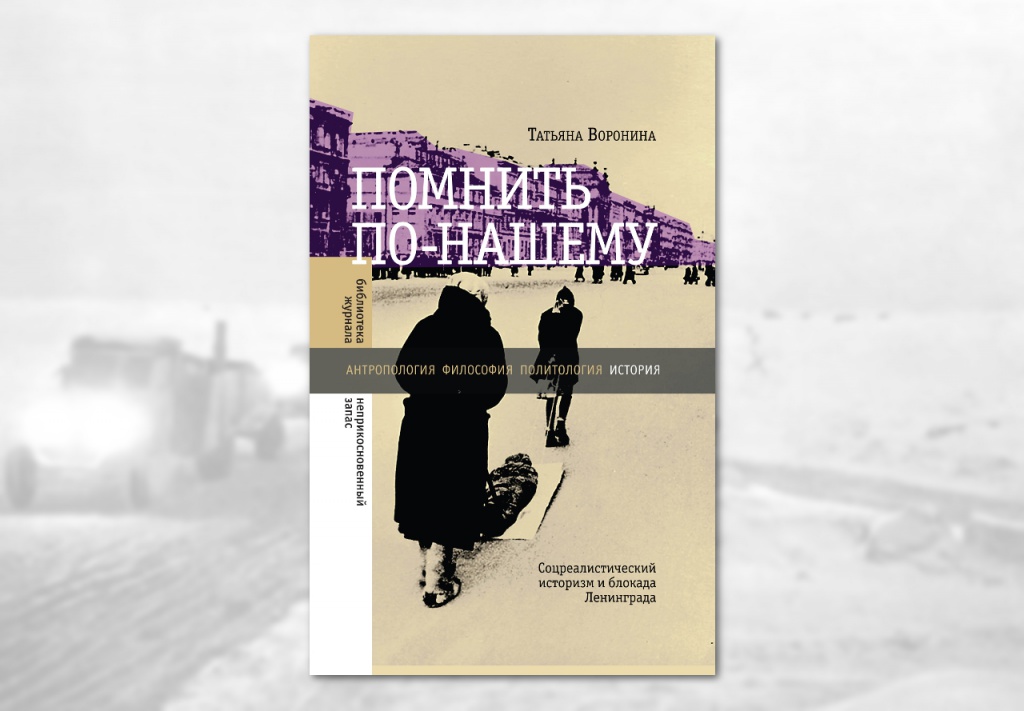
В 1994 году я закончила школу и поступила на исторический факультет Вологодского педагогического университета. Записавшись на семинар по советской истории и размышляя над выбором темы для первой курсовой работы, я отчетливо помню свое замешательство: неизученным казался весь ХХ век! Политические репрессии и история казачества, диссидентство и черносотенцы, голодомор и коллективизация, стройки социализма — все это разнообразие сюжетов, на мой взгляд, требовало изучения и переосмысления. На этом фоне была одна тема, которая не вызывала у меня никаких вопросов, потому что «про нее и так всем все ясно». По крайней мере, я так думала в 17 лет. Это была тема Великой Отечественной войны.
Как и большинство людей, родившихся в СССР, я воспитывалась с пониманием большого значения победы над фашистской Германией и осознанием роли моей страны и народа в этой победе. Я полагала, что нет ничего, что сможет каким-то образом поколебать мою уверенность в их ценности и значении для всех: для мира, для страны, для меня самой. Я и до сих пор так считаю, с той лишь разницей, что за годы работы с историческим прошлым я перестала воспринимать дискурс о войне как органический и само собой разумеющийся.
В моей семье воевали оба деда и бабушка, и День Победы всегда был почитаемым праздником. Я отчетливо помню острое чувство причастности к прошлому страны, которое ощущалось во время семейных обедов, неизменно сопровождавшихся рассказами о погибших в войну родственниках. Рассказы старших членов семьи о времени, проведенном на фронте, сильно контрастировали с парадными презентациями, звучащими из телевизора по случаю 9 Мая. Из рассказов деда я рано узнала о том, что война была намного страшнее и противоречивее, чем о ней обычно говорилось по телевизору, но это не влияло на чувство солидарности с окружавшими меня людьми. Казалось, что все мы: родственники, соседи, знакомые, одноклассники, коллеги по работе — испытывали в этот день одно и то же: гордость за победу, горечь от утраты близких. Транслировавшиеся в эти дни фильмы, музыкальные концерты, специальные программы усиливали эмоции. Поэтому даже не жившие в войну люди, такие как мои родители и я, тем не менее воспринимали эту историю очень лично, почти как свою собственную.
Парадокс сосуществования личной и семейной истории войны с официальной версией этого события заинтересовал меня одновременно с осознанием субъективности восприятия прошлого. Сомнения, а затем и разочарование в возможности постичь прошлое таким, каким оно было в момент совершения события, разрешились благодаря моему интересу к методам устной истории. Устная история, при всей ее разносторонности, исследует то, как люди понимают прошлое и какое значение оно имеет для общества. Поэтому в начале 2000-х годов я в составе группы аспирантов Европейского университета в Санкт-Петербурге приняла участие в исследовательских проектах Центра устной истории. Именно в это время мои коллеги и я брали интервью у блокадников, обсуждая особенности восприятия этого события в индивидуальных нарративах, сопоставляя их между собой и задаваясь вопросами об обстоятельствах, воздействующих на их рассказы. Мой интерес к блокаде в то время был вызван желанием понять возможности исследовательских методов устной истории. Всматриваясь в массив собранных интервью с блокадниками, читая их мемуары, я ощущала, что многое в рассказах о блокаде повторяется из раза в раз, безотносительно возраста и статуса поведавших свои истории людей. И дело не в том, что блокадники видели и запомнили блокаду «такой, какая она есть» (хотя рассказы о бомбежках и обстрелах, счастливом избавлении от смерти и ощущении голода встречались почти в каждом интервью). Объединяли рассказы не только особые темы, к которым все время апеллировали люди, соглашаясь с ними или, наоборот, оспаривая, — их объединял способ построения нарратива. Тогда ко мне пришло осознание важности этих особенностей для конструирования исторических представлений. Таким образом, занятия устной историей стали отправной точкой в моих размышлениях о том, как создавались образы блокады, какие обстоятельства влияли на этот процесс и почему, несмотря на разный опыт или даже не имея его вовсе, люди придерживались общего модуса при ее оценке и испытывали очень похожие чувства.
Наши чувства и эмоции — это инструменты работы с прошлым. Они дополняют, а нередко и определяют нашу картину исторической реальности. Возникая в живой памяти свидетеля или воспроизведенные в кадрах кино или документальной хроники, они обретают смысл через комментарий — письменный или устный, выстраивающий иерархии и наделяющий образы значениями. Именно этот комментарий, выраженный в текстах художественных, публицистических и исторических сочинений, и является предметом моего исследования. Меня интересует, как устроен язык этого комментария, какие образы и эмоции он поддерживает, а какие — подавляет. Каким образом он влияет на восприятие прошлого? От чего он зависит?
Описывая, как устроен дискурс о войне в России, я не хочу, чтобы читатель воспринял это как попытку развенчать советские мифы или посмеяться над советским героизмом. С точки зрения истории памяти героическая репрезентация прошлого совершенно неуникальна в качестве модели для описания прошлого. Как любая репрезентация, она является конструктом, содержащим в себе важные для культуры значения. Мой подход основан на четком разделении блокады как события и блокады как нарратива, устроенного по особым законам. Тем не менее получившаяся книга для многих может стать трудным и даже болезненным чтением, так как процесс рефлексии о сокровенном не может происходить легко. Ставшие в советском языке нормой рассказы о подвиге и героизме людей являются способом рассказа о войне и блокаде, закрепляющим в памяти поколений лишь часть пережитого опыта. Другая ее часть — маргинальные, болезненные, постыдные воспоминания — уходит вместе со свидетелями, не имея шанса быть узнанными и осмысленными потомками. Все, что произошло в войну с местом, природой, людьми и культурой, представляло собой феномен, описать который непросто в первую очередь из-за того, что употребляемый до сих пор язык рассказа об этом событии, созданный в недрах советской культуры и идеологии, был призван маркировать лишь те стороны повседневности, которые оказывались пригодны для героического нарратива об успехах и достижениях, но оставлявшего за рамками травматический опыт.
В течение всего времени работы над книгой меня интересовали в первую очередь вопросы рецепции памяти, в то время как само событие блокады никогда не было предметом моего специального анализа. Тем не менее я считаю важным выразить свое отношение к нему, избавив читателя от необходимости выискивать его между строк. В конце концов, как человек, знакомый с большим количеством личных свидетельств о блокаде, я не могла остаться равнодушна к этой теме.
Блокада Ленинграда — это роковое событие в истории Второй мировой войны, обернувшееся катастрофой для большинства людей, оказавшихся внутри Ленинградского кольца. При этом катастрофичность блокадной жизни определялась не только чудовищными условиями их существования, но и утратой привычных социальных ориентиров. Многие известные по довоенной жизни институты с началом блокады не функционировали или работали в особом режиме. Блокада — это участок времени и пространства, когда были нарушены все основные разметки, позволявшие людям жить нормальной жизнью, где контуры добра и зла определялись и поддерживались повседневными практиками. Именно поэтому блокада не подходит для рассказа с назидательными интонациями и в категориях простых бинарных оппозиций.
Анализируя то, как функционировала советская память о войне и блокаде, я отдаю свой долг памяти тем, кто молчал, не имея возможности рассказать о своей боли. Я искренне полагаю, что процесс осмысления прошлого начинается с понимания того, как устроена историческая память. Надеюсь, моя книга будет хорошим подспорьем в этом процессе.
