Федор Николаи
Память о нацизме и Холокосте в современной культуре: этический долг и(ли) эстетический прием

Rosenfeld G.D. Hi Hitler!: How the Nazi Past Is Being Normalized in Contemporary Culture.
Cambridge: Cambridge University Press, 2015. — X, 466 p.
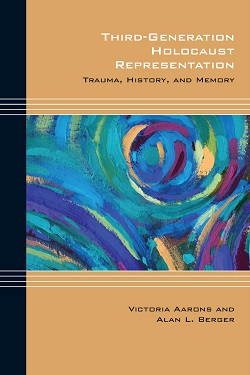
Aarons V., Berger A.L. Third-Generation Holocaust Representation: Trauma, History, and Memory.
Evanston, IL: Northwestern University Press, 2017. — X, 263 p.
В центре политики памяти, которая сегодня все чаще становится ресурсом для конструирования разного рода коллективных и национальных идентичностей[1], и в России, и на Западе находится Вторая мировая война. Но если в России эта политика памяти ориентирована на победу над нацизмом, то в США, Израиле и во многом в Европе — на трагедию Холокоста. «Каждый, кто говорит “память”, говорит “Шоа”», — отмечает в этой связи известный теоретик исследований культуры Андреас Хюссен[2]. Важную роль играет не только различие героических и трагических нарративов само по себе, но и их воздействие на наше понимание причин современного кризиса публичной сферы, роста национализма, нарастания локальных конфликтов и «новых войн»[3].
В этом контексте несомненный интерес представляет книга Гэвриела Розенфельда из Фэрфилдского университета «Хай Гитлер! Как нацистское прошлое нормализуется в современной культуре». В центре внимания автора находятся изменения памяти о нацизме в академической историографии и популярной культуре 2000-х гг. В 1980—1990-е гг. и в США, и в Европе (и, добавим, в России) преобладала установка на извлечение моральных уроков из трагического прошлого. Холокост и нацистские преступления требовали однозначного осуждения и воспринимались как универсальные преступления, абсолютное зло, которое никогда не должно повториться. В «нулевые» подобный морализаторский пафос и его политические импликации (например, косвенное оправдание действий США в Югославии и на Ближнем Востоке или Израиля в Палестине) стали все чаще подвергаться сомнению. Однако стремление включить Холокост в более общий контекст исследования геноцидов и «темной стороны модерна» предполагает, по утверждению Розенфельда, его относительную нормализацию. Причины этой тенденции связаны с изменением политического контекста после терактов 11 сентября 2001 г., дигитальной революцией и спецификой новых медиа (прежде всего интернета), а также переходом событий первой половины ХХ в. из коммуникативной памяти в культурную, о чем подробно пишет Алейда Ассман[4].
Розенфельд рассматривает символическую механику этой нормализации, которая основывается на эстетизации, универсализации и иронии. Эстетизация заключается в переносе акцента с аналитического или морального суждения на оригинальность сюжета или отдельных образов. Универсализация — в рассмотрении нацистского наследия в контексте более общего анализа противоречий эпохи «модерности» с ее колониальными войнами, экономическим угнетением и социальным (классовым) противостоянием. Ирония же, как, например, в случае с интернет-мемом «Хай Гитлер!», превращает нацистское приветствие в оригинальную фразу, в которой юмор заменяет ужас или моральное неприятие. Нацистская символика при этом становится частью популярной культуры, возможно, чуть более «пикантной» и потому более интересной, чем комиксы про Капитана Америку или боевики с Джоном Уэйном.
Универсализация преобладает в академической историографии, которой посвящена первая и, пожалуй, наиболее интересная глава книги. Здесь рассматривается критика героического нарратива и идеализации Второй мировой (истоки которых связаны еще с военной пропагандой 1939—1945 гг.) в работах современных западных историков. Прежний морализм сегодня все чаще подвергается сомнению, поскольку снимает с союзников ответственность за политику «умиротворения» Германии и Японии накануне Второй мировой, военные преступления и этнические перемещения, бомбардировки немецких городов и расовую дискриминацию в армии. Такое признание равной ответственности за войну, по мнению Розенфельда, косвенно нормализует нацистский режим — делает его вполне обычным явлением в пространстве политического цинизма первой половины ХХ в.
Но если для англо-американской историографии эта ревизия содержит продуктивный потенциал развенчания мифологии «справедливой войны» и дополняет критику вторжения США в Афганистан и Ирак, то в немецкой, российской или восточноевропейской историографии такая позиция скорее вызывает сомнения, поскольку предполагает критику других и служит мифологизации собственной национальной идентичности. В этом смысле представляется справедливым утверждение Розенфельда, что память о Второй мировой до сих пор определяет рамки даже академического историописания в его нацеленности на конструирование «полезного прошлого». И актуальной задачей современной историографии является не возвращение к «наивному позитивизму» с его тезисом о «нейтральности и объективности исторического знания», а проблематизация двусторонних связей настоящего и прошлого через обсуждение механизмов их взаимодействия в публичном пространстве.
Вторая и третья главы посвящены дебатам об уникальности Холокоста и контрфактическим попыткам смоделировать, «что было бы, если бы его не было». Как уже отмечалось, ревизионистская историография 2000-х гг. предлагает рассматривать Холокост в широком контексте массовых убийств и насилия эпохи «модерности». Так, известный историк Дирк Мозес пишет о «расистском веке» (1850—1950), отмеченном господством не только идеологии, но и прагматики перераспределения ресурсов по расовому/национальному признаку[5]. В дискуссиях последнего десятилетия тезис об уникальности Холокоста сменился вопросом о том, может ли он выступать «типичной моделью» для геноцидов в целом или же воспроизводит европоцентристский канон, отодвигая на задний план другие (прежде всего колониальные) массовые убийства. Особенно любопытны в этой связи работы Майкла Ротберга, занимающегося сравнением памяти о Холокосте в Израиле и в Европе, а также Джефри Александера, настаивающего, что тезис об уникальности Холокоста не противоречит идее универсальности морали, а наоборот, подтверждает ее и именно поэтому оказывается в центре современной космополитической памяти[6].
Четвертая глава посвящена альтернативной истории Третьего рейха, прежде всего в литературе и кинематографе. Романы «Без фюрера» (2008) Вольфганга Бреннера, «Африканский рейх» (2011) Гая Сэвилла, «Американский орел» (2011) Алана Глинна, «Сопротивление» (2007) Оуэна Ширса, «Человек с железным сердцем» (2008) Гарри Тертлдава (экранизованный в 2017 г. Седриком Жименесом) и, наконец, фильм «Железное небо» (2912) Тимо Вуоренсолы во многом становятся проявлением современной тенденции к эстетизации нацизма и его иронической репрезентации. В значительной части художественной литературы 2000-х гг., согласно Розенфельду, возобладал интерес именно к радикальному ревизионизму — провокационным предположениям «что было бы, если бы»: Рузвельт был бы убит в 1933 г., высадка союзников в Нормандии закончилась бы поражением, немцы взяли бы в плен британскую армию в Дюнкерке, переговоры Р. Гесса завершились бы подписанием мирного договора, Р. Гейдрих пережил бы покушение и возглавил бы в 1945 г. партизанское движение в оккупированной Германии… Такие (чаще всего антиутопические) проекты тоже косвенно нормализуют нацизм, демонстрируя склонность политиков и населения разных стран к коллаборационизму. Хотя Розенфельд, возможно, слишком увлекается пересказом соответствующих сюжетов, именно здесь он ставит крайне важный вопрос о диалектике нормализации — диалектической взаимосвязи морализма 1980—1990-х гг., радикального ревизионизма 2000-х и умеренной нормализации 2010-х как их синтеза. Академическая историография в этом контексте выступает генератором идей, часть которых получает отклик и тиражируется сначала в литературе и кинематографе, а затем в интернете и популярной культуре.
Пятая и шестая главы посвящены стратегиям репрезентации нацизма в современном кинематографе и в интернете. Такие фильмы, как «Макс» (2002) Менно Мейеса, «Гитлер: восхождение дьявола» (2003) Кристиана Дюгея, «Мой фюрер» (2007) Дэни Леви, «Моя борьба» (2009) Урса Одерматта и «Бесславные ублюдки» (2009) Квентина Тарантино, интересуют Розенфельда своей тенденцией к «гуманизации» Гитлера и нормализации его посредством иронии, деконструирующей моралистический пафос предшествующих репрезентаций. По мнению автора, сатира и юмор здесь могут содержать весьма сомнительные импликации. Для поколений Джорджа Табори (по чьей пьесе «Моя борьба» был снят фильм Одерматта) или Арта Шпигельмана, чьи семьи прошли через Холокост, и для молодых режиссеров, родившихся в 1970—1980-е гг., ирония «работает» по-разному. В первом случае она служит скорее проблематизации устоявшихся канонов репрезентации событий 1930—1940-х гг. и их причин, для того чтобы вернуться к глубоко личностному опыту их участников. Во втором же случае эстетика авторского жеста может превращаться в самоцель; этические импликации теряют самостоятельное значение, грань между палачами и жертвами почти стирается (как, например, в фильме Тарантино).
Еще сильнее эта тенденция сказывается в интернете, который создает иллюзию избытка информации, что провоцирует нежелание пользователей анализировать и существенно влияет на их практики запоминания. В центре такого тиражирования образов оказываются собственные ощущения и воспроизводство общепринятых клише. Кроме того, на интернет-сайтах информация всегда адаптирована — историографическая полемика и сложные терминологические вопросы сведены к минимуму. Академические исследователи, которые лишь относительно недавно стали активно обсуждать производство «полезного прошлого» в кинематографе, пока крайне редко обращают внимание на популярные исторические сайты. В результате последние тиражируют наиболее радикальный вариант ревизионизма, иногда скатываясь к негационизму — отрицанию Холокоста. Ирония здесь превращает термин «нацизм» в «пустое означающее» (с. 341), пригодное для любого содержания и свободное от каких-либо моральных коннотаций. Происходит «гитлеризации всех мемов». Котики и рыбки, «похожие на Гитлера», компьютерные игры и видеоролики («диско-Гитлер», «Гитлер играет в “GTA-5”» и др.) выступают, по мнению Розенфельда, симптомом наиболее антирефлексивной версии нормализации нацизма в современной культуре: из трагедии он превращается в фарс.
Можно не соглашаться с таким пониманием иронии[7], но она, несомненно, свидетельствует о пересборке отношений этического и эстетического, происходящей в отношении к историческому наследию в современной культуре. Конечно, векторы морализации и эстетизации не обязательно противоречат друг другу. Однако их дисбаланс вызывает у Розенфельда вполне справедливые опасения в связи с упомянутым переходом коммуникативной памяти в культурную — от участников событий к их наследникам.
Эта проблема, хотя и в совершенно ином ключе, рассматривается в книге Виктории Ааронс и Алана Бергера «Холокост в репрезентациях третьего поколения: травма, история и память». «Внуки тех, кто пережил Холокост, все еще испытывают воздействие опыта и воспоминаний своих предков. <…> Если дети выживших, второе поколение, как отмечал писатель Тэйн Розенбаум, выросли “свидетелями устойчивой травмы, заложниками которой стали их родители”, то третье поколение оказалось вынуждено выстраивать новые условные интеллектуальные карты и фрагментарные нарративы» (с. 3—4). Для интеллектуалов, прошедших через нацистские лагеря (Примо Леви, Эли Визеля и др.), ключевую роль играла проблема экзистенциального свидетельства о предельных событиях прошлого. Их дети (поколение Арта Шпигельмана) подчеркивали недоступность прямого опыта, что обуславливало их интерес к теории травмы как сбоя репрезентации. При этом память выступала для второго поколения этическим императивом, долгом «верности прошлому». В 2000-е гг. внуки выживших наряду с отсутствием прямого опыта столкнулись с «нормализацией» знания о Холокосте, которое вошло в учебники и стало превращаться в общеизвестную и потому безличную «историю, оставшуюся в прошлом»[8]. Для преодоления этой безличности третье поколение пытается реабилитировать возможности нарратива и эстетизировать практики коммеморации. Используя метафору из романа Джулии Оррингер «Невидимый мост», можно сказать, что литература в этой ситуации становится ключевым медиумом, позволяющим потомкам и их предкам говорить на одном языке. Умолчание, фрагментарность нарратива, косвенные интертекстуальные отсылки становятся приемами передачи культурной памяти. В таких романах, как «Невидимый мост», «Приключения Кавалера и Клея» Майкла Шейбона, «Пропавшие: в поисках шести из шести миллионов» Дэниэла Мендельсона, «Хроники любви» и «Большой дом» Николь Краусс, этический долг перед родственниками, прошедшими Холокост, остается по-прежнему важным, но дополняется аналитической рефлексией о природе культурной памяти и эстетизируется.
Авторы названных книг родились в 1960—1970-е гг. Но не столько биографическая близость объединяет их тексты, сколько важность «постпамяти», которая, по словам Марианны Хирш, оказывается опосредована воображаемым[9]. Такая память основана на метонимической важности отдельных деталей. В центре их повествований находятся семейные фотографии, реликвии и письма. Они не просто выступают фрагментарными останками прошлой жизни, но и маркируют потерю соединяющей жизненной ткани. Такая память «соответствует метонимическому тропу, позволяющему регистрировать величину и продолжительность утрат» (с. 42). Если для второго поколения эти вещи воплощали травму, которую, казалось, невозможно репрезентировать, то для представителей третьего поколения они все же становятся частью нарратива. «Такие объекты легко апроприируются памятью третьего поколения и трансформируются в рассказы. Объекты становятся нарративами» (с. 85). «Здесь артефакт превращается в риторический троп, метонимически замещая предмет тотальностью страдания» (с. 90).
В этом контексте стоит напомнить о полемике Хейдена Уайта и Саула Фридлендера в известном сборнике «Переопределяя границы репрезентации»[10]. Первый из них подчеркивал нарративный характер репрезентаций Холокоста, а второй отмечал важность этических границ такого рода репрезентаций. В ходе полемики Фридлендер использовал контрфактическую аргументацию: если бы немцы победили, история Холокоста была бы написана совершенно иначе, но мы не можем рассматривать такой рассказ о Второй мировой войне как «просто еще один нарратив», принципиально не противоречащий современной «моральной парадигме». Между ними есть фундаментальное различие, связанное с нашей этической позицией. В начале 1990-х гг. большинство присоединившихся к дискуссии поддержало Фридлендера. Однако сегодня именно линия Уайта оказалась востребована в текстах третьего поколения, для которого, по словам Ааронс и Бергера, именно нарратив оказывается ключевым посредником при передаче опыта, «превращающим историю жизни в биографию» (с. 43).
Впрочем, в своем крайнем выражении реабилитация нарратива проблематизирует саму идею культурной памяти, поскольку речь идет не о персональных воспоминаниях и опыте, а об исторических представлениях или воображении. В этом смысле литература третьего поколения продолжает пересмотр темпоральных отношений прошлого и настоящего, — она ищет возможность «прочувствовать» Холокост через яркие образы и нарративы. У Ааронс и Бергера такая эстетизация вызывает несомненную симпатию, тогда как Розенфельд наверняка бы отметил здесь опасность возможного снижения саморефлексии и необходимость дальнейшей проработки прошлого. Как утверждает американский теоретик memory studies Доминик Лакапра, понятие проработки предполагает напряжение смыслов и осознание темпоральной дистанции между настоящим и прошлым[11]. Психотерапевт Дан Бар-Он, работавший в Израиле с пережившими Холокост и их потомками, выделяет пять стадий проработки: знание о событии, его понимание, эмоциональный отклик, когнитивный отклик и, наконец, изменение поведения[12]. С этой точки зрения реабилитация нарративного воображения важна не сама по себе, а как переход от эмоционального отклика к когнитивному и далее — к изменению нашей активности в пространстве повседневного. Аналогичным образом уже упоминавшийся Уайт настаивал, что нельзя абсолютизировать деталь как свидетельство подлинности: необходимо вернуться к метафорическому тропу и универсальному взгляду, позволяющему активно действовать в настоящем.
Эта активность не может быть индивидуальной, она требует взаимодействия и генерируется в рамках сообщества (подобно тому, как ирония всегда предполагает адресата в процессе коммуникации). Как отмечают Ааронс и Бергер, в литературе третьего поколения «мы видим повторяющийся паттерн формирования идентичности — аффективного представления себя в другом, а других в себе. Симптомом этого аффективного переноса является повторение разного рода подмен и замещений» (с. 25). Формирующиеся в результате такого переноса сообщества можно назвать «аффективными»[13]. Сегодняшняя популярность правой политики идентичности вызвана во многом тем, что государства (США, Израиль, Россия, страны Восточной Европы) в разной форме улавливают и конденсируют энергию этих сообществ. Как возникает аффект в пространстве эстетического опыта и как он транслируется — именно эти вопросы представляются наиболее актуальными для современных исследований культуры. Нормализация нацизма в поп-культуре и реабилитация нарратива в посвященной Холокосту литературе выступают лишь симптомами этих более общих процессов.
Отметим также, что анализ «пересборки» отношений этического императива и эстетизации необходимо вести на предельно широком материале, включающем не только европейскую историю, но и память о Хиросиме, (пост)колониальных конфликтах, социальных и экологических кризисах в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке, а также историю сообществ, возникающих не из трагедий, но из опыта продуктивного сотрудничества в повседневных практиках. Без такого широкого анализа взаимосвязи «темной стороны» и эмансипационного потенциала проекта «модерности» сообщества нового типа будут по-прежнему конструироваться через ностальгические репрезентации (относительно) недавнего прошлого, а перспективы социальных изменений — блокироваться. Память, понимаемая как идеалистическая поглощенность прошлым, по выражению Ааронс и Бергера, «арестовывает время» и подчиняет будущее прошлому (с. 216). Выход из этой ситуации указывает Розенфельд, которого интересуют диалектические противоречия современной культуры, провоцирующие трансформации повседневных и культурных практик. Напряжение между этическим императивом и эстетизацией, несомненно, может выступать источником обновления культурных форм.
Наконец, важно подчеркнуть принципиальную смену теоретических подходов к культурной памяти в последние годы: вместо конструирования жестких умозрительных оппозиций (репрезентируемое / нерепрезентируемое, проективная идентификация / дистанция, исключительность Холокоста / его нормализация) внимание как академических исследователей, так и писателей, режиссеров и деятелей культуры переключилось на процессуальность нашего отношения с прошлым. Эстетизация сегодня выступает и как технический прием, и как симптом общей «пересборки» прошлого, настоящего и будущего, отношения между которыми едва ли получится вернуть к прежней линейной преемственности, описанной Райнхартом Козеллеком применительно к эпохе национальных государств. Предельно актуальным представляется осмысление их новой конфигурации, обусловленной усилением сообществ нового типа с присущей им «гибкой» солидарностью и активностью в пространстве повседневных культурных практик.
[1] См. об этом: Историческая политика в XXI в. / Под ред. А. Миллера, М. Липмана. М.: НЛО, 2011; Калинин И. Прошлое как ограниченный ресурс: историческая политика и экономика ренты // Неприкосновенный запас. 2013. № 2. С. 200—214; Ушакин С. Отстраивая историю: советское прошлое сегодня // Неприкосновенный запас. 2011. № 6. С. 10—16, и др.
[2] Huyssen A. Present Past: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 14.
[3] См.: Калдор М. Новые и старые войны: Организованное насилие в глобальную эпоху / Пер. с англ. А. Аполлонова, Д. Дондуковского. М.: Издательство Института Гайдара, 2016.
[4] См.: Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2018.
[5] См.: Moses A.D. Conceptual Blockage and Definitional Dilemmas in the «Racial Century»: Genocides of Indigenous Peoples and the Holocaust // Patterns of Prejudice. 2002. № 4. P. 7—36.
[6] См.: Rothberg M. Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Palo Alto: Stanford University Press, 2009; Alexander J. Remembering the Holocaust: A Debate. Oxford: Oxford University Press, 2009.
[7] Ирония и юмор не вполне подчиняются политической интенциональности авторов/рассказчиков. Они имеют трансидеологический характер, а потому могут использоваться в прямо противоположных политических целях. Как отмечает канадский литературовед Линда Хатчеон, «и конформисты, и бунтари используют иронию друг против друга и в равной степени страдают от нее» (Hutcheon L. Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony. L., N.Y.: Routledge, 1995. Р. 49). В художественной литературе эта ирония работает тоньше, чем в кино или интернете, т.е. чаще воздействует на воображение, чем создает новые клише. В романе Тимура Вермеса «Он вернулся» (2013) Гитлер загадочным образом (без каких-либо объяснений автора) переносится в современный Берлин и «разузнает» привычные нам реалии: «Википедию» он связывает с наследием викингов, мигрантов из Турции считает союзниками Германии, восставшими против Британской империи и т.д. Но даже такая ирония, по мнению Розенфельда, несет в себе риск тривиализации нацистских преступлений.
[8] Lothe J., Suleiman S., Phelan J. After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future. Columbus: Ohio State University, 2012. Р. 1.
[9] Hirsch M. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge: Harvard University Press, 1997. P. 22.
[10] Probing the Limits of Representation: Nazism and «Final Solution» / Ed. S. Friedlander. Cambridge: Harvard University Press, 1992. К этой полемике обращается и Г. Розенфельд, которого интересует в основном контрфактическая аргументация Фридлендера.
[11] См.: LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
[12] См.: Bar-On D. Fear and Hope: Three Generations of the Holocaust. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
[13] Подробнее см.: Петровская Е.В. Теория образа. М.: РГГУ, 2012; Кобылин И.И. История боли: аффект, языковые игры и биополитика страдания // НЛО. 2017. № 3. С. 350—361.
