Павел Уваров
Наша любимая революция (о книге А.Чудинова, но не только о ней)
Сто пятьдесят лет назад, в 1868 г., в Московском университете Владимир Герье впервые в нашей стране приступил к чтению курса по истории Французской революции. А ее нигде — возможно, даже и в самой Франции — не любили так, как у нас. Улицы Марата можно обнаружить в Калининграде и в Находке, в Мурманске и в Севастополе. Неподкупный Робеспьер дал свое имя улицам в Новороссийске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Воткинске, Ржеве. Вот только в Санкт-Петербурге в 2014 г. у Робеспьера «отобрали» его набережную, обозвав при этом «кровавым революционером».
Украинская волна переименований не затронула память о якобинцах. В бывшем Днепропетровске, разжалованном в город Днепр, неприкосновенными остались таблички на улицах Марата и Робеспьера. Последнего чтут в Харькове и в Донецке. Разделенные территории юго-востока Украины объединяет любовь к Марату — улицы с его именем есть как в Донецке и Енакиево, так и в Краматорске и Лисичанске. Улицу Марата можно найти не только в Одессе, Запорожье, Полтаве, но даже в древнем городе Бар, на родине Барской конфедерации 1768 г., которая привела к разделу Польши. Здесь-то память о Марате может быть оправдана хотя бы тем, что молодой французский врач разразился в те годы «Польскими письмами», рассуждая о судьбах конфедератов (не знаю, вспоминают ли об этом в Винницкой области). Марата помнит и Беларусь — его именем названы улицы в Минске, Орше, Жлобине.
Монтаньяры, таким образом, служат «духовной скрепой» восточнославянского единства. Статьи, написанные о революции конца XVIII в. в Википедии на русском, украинском и белорусском языках, имеют заглавие «Великая Французская революция», тогда как 130 других языков ее именуют просто «Французской революцией». Исключение составляют лишь тексты на языках народов Российской Федерации и некоторых бывших советских республик. Объяснить эту особенность революционно-марксистским прошлым не получится — в странах, где марксизм является официальной идеологией, например в Китае и во Вьетнаме, Французскую революцию «Великой» не называют, как, впрочем, и в самой Франции.
Когда на одном телевизионном ток-шоу мне довелось сказать об этом, участники облили презрением не только меня, но и французов, обвинив их в стремлении исказить величие родной истории. Напрасно я утверждал обратное, ведь во Франции только это одно событие называют просто «революцией», а во всех прочих случаях уточняют: «революция 1848 года», «революция 4 сентября 1870 года». Ничего не помогало. Раз в нашей стране ее называют Великой, значит, только это правильно, а иное является отступничеством. Бороться с этим убеждением столь же трудно, как пытаться доказать, что 14 июля французы не отмечают очередную годовщину взятия Бастилии, а радуются немного по другому поводу[1].
Про то, когда и почему Французская революция стала у нас «Великой» и обросла набором устойчивых мифов, можно прочитать в книгах Тамары Кондратьевой[2] и Александра Гордона[3], но самым авторитетным я бы назвал труд Александра Чудинова[4]. Этот исследователь вот уже 35 лет занимается темами, связанными с Французской революцией и с Наполеоновской эпохой. Конечно, есть коллеги и постарше его, но — что очень важно — Чудинов занимался этими сюжетами непрерывно, создав свою научную школу. К тому же его работы хорошо известны западным историкам. Его, например, пригласили участвовать в любопытном издании «История Франции. Взгляд извне»[5], в котором узловые моменты долгого пути французской нации освещены иностранными учеными. Для этой книги Чудинов написал две главы. Одна из них — об Аустерлицком сражении. Понятно, почему для этой главы выбрали именно нашего автора, ведь российский император был одним из главных героев этого события. Но в другом случае выбор кандидатуры менее ожидаем — глава посвящена взятию Бастилии 14 июля 1789 г. Рассказ получился у Чудинова совсем не комплиментарным, выбивающимся из российской традиции. В кратком очерке отражены все предпочтения автора: непременный поиск и публикация новых источников (свидетельств русских очевидцев), раскрывающих прошлое с неожиданной стороны, любовь к развенчиванию стереотипов, внимание к фактам, о которых не принято вспоминать.
Но сейчас поговорим о новой книге Чудинова — «История Французской революции. Пути познания», посвященной не самой революции и даже не мифам о ней (такую книгу автор написал раньше[6]), а судьбам школы российских историков Французской революции, ее взлетам и падениям на протяжении последних полутора веков.
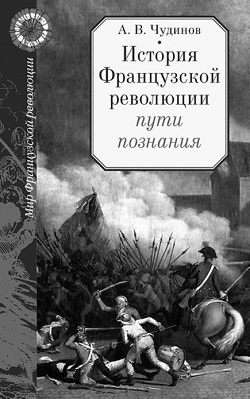
В аннотации книга названа монографией, но это определение не очевидно, коль скоро она состоит из одиннадцати очерков, представляющих собой статьи разных лет. Знакомясь с ее содержанием, я вспоминал повесть Сергея Довлатова «Чемодан». Герой неожиданно для самого себя раскрывает старый чемодан и, доставая из него то поплиновую рубашку, то офицерский ремень, то креповые финские носки, вспоминает обстоятельства, связанные с обретением каждого из предметов. В итоге все истории причудливо, но вполне органично вплетаются в автобиографическую канву.
Александр Чудинов достает свои старые тексты и любовно перебирает их, восстанавливая историю их написания, вставляя в историографический контекст, с высоты прожитых лет возвращаясь к поднятому вопросу. Раскладывает он тексты не в порядке их написания, а по хронологии сюжетов, от рассказа о трудах В.И. Герье до анализа современных работ. Хронологических горизонтов получается как минимум четыре: время самой Французской революции, время, в которое были написаны анализируемые труды, время написания и публикации текста самого Чудинова и, наконец, его нынешние рассуждения по этому поводу. Полифония помогает воссоздать ход развития историографической традиции с ее преемственностью, разрывами и противоречиями. Такой жанр можно назвать творческой реутилизацией, позволяющей перекликающимся друг с другом текстам обрести новый смысл.
Неизбежный субъективизм служит при этом хорошей защитой. Был бы это классический историографический труд об изучении революционной проблематики, я бы попенял автору на отсутствие в нем титанической фигуры Б.Н. Поршнева или на невнимание к трехтомнику «История Франции»[7], кстати, переведенному на французский язык и встретившему во Франции неоднозначную оценку.
Я бы сказал, что перед нами подчеркнуто неисториографический труд. Историография предполагает отстраненное отношение к объекту изучения и, как правило, не описывает исследовательскую кухню. В таких трудах обычно пишут о полемике историка А. с историком Б., ссылаясь на мемуары, партийные документы, биографическую прозу, доносы, письма, прибегая к дискурсивному анализу, но особо не вникая в суть научных споров, не читая источников, на которые ссылаются спорщики. У Чудинова иное. Как практикующий историк он достаточно долго просидел в архивах, что дает ему право разговаривать со своими коллегами — как здравствующими, так и ушедшими из жизни — на равных, «по гамбургскому счету».
Сначала кратко о содержании книги.
«Русская школа» изучения Французской революции, сформировавшаяся в конце XIX в., была хорошо известна на Западе. Сами французы считали ее сильнейшей из всех иностранных школ, изучающих их революцию. Русские историки ездили в командировки во французские архивы, были в курсе историографических новинок и сами публиковались на Западе. При этом у нас возобладало апологетическое отношение к Французской революции, общественное мнение видело в ней образец для подражания, сценарий грядущей Русской революции.
В СССР усилившаяся экстраполяция французского опыта на российскую почву определила идеологизированный подход к изучению революции. Советские историки унаследовали лишь некоторые традиции «Русской школы», к тому же изоляция страны и диктат идеологии отодвигали работу с источниками на второй план. По-своему расставляя акценты, они все же были склонны в общих чертах солидаризироваться с французской апологетической традицией изучения революции. Пересмотр этой традиции историками-ревизионистами в 1970-х гг. был воспринят болезненно. «Стрелы, направленные против Французской революции XVIII века, целят дальше, — это стрелы и против Великой Октябрьской социалистической революции, могущественного Советского Союза…» — писал А.З. Манфред в 1977 г. Но еще до перестройки советская школа изучения Французской революции пришла в упадок.
Сейчас история Французской революции перестала быть идеологическим приоритетом, что обеспечило историкам свободу, но и лишило институциональной поддержки. В итоге трудного переходного периода сложилась «Новая русская школа», и путь, ею пройденный, вселяет в Чудинова известный оптимизм. Этой школе еще далеко до международного престижа дореволюционной «Русской школы». Однако ее преимуществом является отказ от ангажированности. И в России, и даже во Франции идет десакрализация революции, что превращает ее в обычный предмет научного познания историков. Субъективизм, рожденный плюрализмом подходов, представляется автору предпочтительнее монополии на истину.
С этими соображениями трудно спорить, но гораздо интереснее конкретные историографические наблюдения автора.
«Русскую школу» до середины 1950-х гг. у нас в основном критиковали, а затем следующие 60 лет хвалили, постепенно повышая тон от робкого признания заслуг до безудержного прославления. Чудинов старается сохранять беспристрастность, хотя ему явно симпатичнее те из историков, кто по отношению к революции также ратовал за беспристрастность, видя в этом преимущество российских историков перед французами. Этому учил Владимир Николаевич Герье. В советское время за ним закрепилась репутация консерватора и реакционера, и потому на него долго не распространялась реабилитация заслуг «Русской школы», хотя этот «реакционер» был горячим поборником женского образования, академических свобод и сумел утвердить в Императорском Московском университете курс истории Французской революции. Но Герье, заставший еще лекции Ранке в Берлине, стремился установить «как оно было на самом деле», допуская в качестве объяснения не только развитие идей Просвещения и общий социальный прогресс, но и буйство человеческих страстей. Для него революция — это и клятва на Марсовом поле, и повседневные сцены террора.
Для другого столпа «Русской школы» — Николая Ивановича Кареева, прекрасно знавшего и о «сентябрьских убийствах», и о нантских «революционных свадьбах-нуаядах», важнее всегда была, как он говорил, «праздничная, казовая сторона революции» и неприемлемым казалось «выворачивание изнанки», демонстрация патологии революции. В Российской империи в этом споре победил Кареев, с его легкой руки за Французской революцией закрепился эпитет «Великая»[8]. А как же иначе, коль скоро французские реалии легко было сблизить с нашей действительностью, стоило лишь заменить слова «французский абсолютизм» на «российское самодержавие». Какая уж тут беспристрастность!
При этом Кареев открыто не полемизировал со своим учителем Герье, но Чудинов в первом своем очерке показывает, как включенность в мировой историографический процесс давала им возможность вести заочную дуэль.
После книг популярных в России французских авторов — Тьера, Минье, Мишле и других — многотомный труд Ипполита Тэна «Происхождение современной Франции» был многими воспринят как пасквиль на революцию. Но Герье, не во всем согласный с Тэном, отмечал огромную эрудицию и новаторство эмпирического метода автора, внимание к психологии, желание восстановить массовые умонастроения. Когда Альфонс Олар, основатель и бессменный глава кафедры истории революции в Сорбонне, в 1907 г. посвятил свой труд развенчанию Тэна как историка, его выводы сразу же стали достоянием российской публики благодаря большой обзорной статье Кареева, явно не симпатизировавшего книге Тэна. «Если хотя бы половину или треть того, что Олар объявляет в ней фантастичным, признать действительно таковым, то авторитет Тэна как историка должен считаться совершенно подорванным»[9], — писал Кареев, косвенно адресуясь к Герье как к поклоннику Тэна. Однако в 1909 г. молодой французский историк Огюстен Кошен, перепроверив по источникам критические замечания Олара, доказал их несостоятельность. Эрудиция и скрупулезность Тэна выдержали испытание самой пристрастной критики. Но Кошен, отдавая должное «Происхождению современной Франции», предложил иную концепцию революции.
В России лишь Герье оценил книгу Кошена. В заслугу автору он поставил не только блестящую защиту Тэна, но и оригинальность предложенного им метода, сочетавшего знание источников с интересом к психологии, с применением «социологического метода» Э. Дюркгейма и с вниманием к тому, что сегодня называют политологией. Трудно поверить, что Кареев — не только лидер в изучении революции, но еще и теоретик молодой русской социологии — ничего не знал о трудах Кошена. Однако он ни словом не обмолвился о них. Культ Французской революции стал надежным фильтром на пути новых идей.
Огюстен Кошен, погибший в 1916 г. под Аррасом, не успел повлиять на историографию — история революции надолго станет доменом исследователей, придерживающихся левых взглядов. Этого историка вновь откроют для себя историки-ревизионисты в последней трети XX в. Сегодня споры между апологетами революции и ревизионистами ушли в прошлое, но труды Кошена остаются востребованными (новейшее издание вышло в этом году[10]).
У нас о Кошене в 1989 г. синхронно вспомнили два академика и один аспирант. Аспирантом был Чудинов, которому для сдачи кандидатского экзамена по специальности надлежало представить реферат на тему, отличную от темы диссертации, для чего он и выбрал труды малоизвестного Кошена[11]. Из академиков, вспомнивших о Кошене, одним был Алексей Нарочницкий, автор обзорной статьи об историографии Французской революции, явно этого историка не читавший. Зато другой академик внимательно его прочитал и принял к сведению. Им был не кто иной, как Игорь Шафаревич. Он заимствовал у Кошена понятие «малый народ», творчески приложив его уже не к французской истории. Отложим вопрос, какой именно «малый народ» имел в виду мятежный математик. Сам Кошен[12] писал об «обществах мысли», сформировавших особый стиль мышления и общения и развивавшихся по своим собственным правилам, напрямую не связанным с реальными проблемами Французского королевства. Опираясь на социологический метод Дюркгейма, историк показал, как благодаря законам человеческого общения шла неизбежная радикализация высказываний в многочисленных парижских салонах, провинциальных академиях, масонских ложах, среди членов незримой «литературной республики».
Кошен явно обогнал свое время, предвосхитив и «лингвистический поворот», и историческую антропологию, и многое другое. Разумеется, аспирант Чудинов не писал обо всем этом, отмечая не только сильные, но и явно слабые стороны концепции Кошена, так и оставшейся незавершенной. Текст взяли во «Французский ежегодник» за 1989 г., хотя аспирантские статьи нечасто попадали в академические издания. При этом автору предложили сделать оговорку, что труды Кошена интересны не сами по себе, а лишь как источник для вдохновения критиков марксистской историографии. Однако Чудинов, уже тогда отличавшийся упрямством, этой оговорки так и не сделал.
Как бы то ни было, концепция Кошена не совершила переворота ни во французской историографии, ни в российской. У нас победила тенденция показывать лишь светлую сторону революции. Не случайно в марте 1917 г. гимном революционной страны стала «рабочая Марсельеза». Слова были новые, но музыка та же, сочиненная еще Руже де Лилем.
Когда же эту «Марсельезу» сменил «Интернационал», актуальность изучения Французской революции лишь возросла. Наступившему советскому периоду в книге Чудинова посвящены три очерка, разрушающие легенды.
Под его прицелом оказывается миф о Николае Лукине, отце-основателе корпорации советских историков Французской революции. Старый большевик, участвовавший в революционном движении с 1904 г., окончивший Московский университет (тема дипломной работы — «Падение Жиронды») и оставленный для научной работы при кафедре всеобщей истории, прекрасно подходил для этой роли. В 1918 г. он брошен партией на исторический фронт. Если перед М.Н. Покровским стояла задача обеспечить торжество марксизма в изучении истории России, то Лукин осуществлял эту миссию в отношении всеобщей истории. Он очень много преподает — в Комакадемии, Академии Генерального штаба, Институте красной профессуры, РАНИОН, ИФЛИ и, наконец, на возрожденном историческом факультете МГУ. Лукин заседает во множестве комиссий, умудрившись при этом в начале 1920-х гг. издать пять книг. Избран (хотя и не с первого раза) в Академию наук, публикует статьи об аграрной политике якобинцев, но завершить книгу по этой теме ему помешал арест в 1938 г. и последующая гибель. Его ученики, сами ставшие известными историками, сами прошедшие через лагеря, пронесли сквозь испытания верность учителю, обеспечив ему почетное место в пантеоне советской историографии.
Если бы для Чудинова развенчание мифа было самоцелью, стоило рассказать об участии Лукина в «академическом деле» и в «проработке» Кареева, о стремлении искоренить наследие «Русской школы», о его апологетике школы Покровского да и просто привести наугад несколько цитат из программных статей в возглавляемом им журнале «Историк-марксист». Но это совершенно не входит в задачи автора, который, как уже говорилось, предпочитает читать основные тексты человека, о котором пишет, оценивать источниковую базу и обоснованность выводов его исследований.
В 1990 г. Институт всеобщей истории переехал в башню на Ленинском проспекте, именуемую москвичами «Золотые мозги». В опустевших комнатах старого здания валялись брошенные листы и папки, ненужные на новом месте. Коллеги Чудинова знают о его страсти собирать бумажки, которые, как он считает, обретут ценность историографического источника. Представляю, как хищно блеснули глаза из-под стекол его очков, когда, нагнувшись над одной из папок, он обнаружил в ней машинописный текст первой работы Лукина «Падение Жиронды». Считавшаяся утерянной, она была обнаружена в архиве в конце 1980-х гг. и готовилась к публикации во «Французском ежегоднике», но издание прекратило существование.
Начиная анализ наследия Лукина с «Падения Жиронды», Чудинов убеждается, что ценность работы заключалась в применении марксистского метода к истории, что до 1917 г. случалось нечасто. Остальные достоинства скромнее. Материал брался из вторых рук и лишь отчасти — из публикации Оларом протоколов Якобинского клуба. Но и этот материал нужен был автору не для доказательства своих тезисов, а лишь как иллюстрация. Конфликт между якобинцами и жирондистами постулировался Лукиным как борьба «низов» против «крупной буржуазии». Затем факты укладывались в прокрустово ложе заданной схемы, что вызывало многочисленные неточности и хронологические натяжки. У Лукина были несомненные способности, но утверждать, что он уже был крупным ученым к моменту, когда приступил к созданию советской исторической школы, нельзя.
Книги, которые Лукин выпустил с 1919-го по 1925 г., были учебными пособиями, популярными очерками, публицистическими откликами на злобу дня, но на статус исследования мог претендовать лишь его «Максимилиан Робеспьер». Кроме Робеспьера людей в книге практически нет, есть лишь «типичные представители» партий и группировок, «выражавшие интересы» своего класса. При этом на веру надо брать как то, что данные политики или партии стремились выражать чьи-то интересы, так и само наличие «классов» и «прослоек» как объективно существующих групп, к тому же осознававших свою обособленность и свои цели. Но это не научное исследование, когда ученый сначала выдвигает гипотезу, а затем доказывает ее или опровергает на основании источников и рациональной их критики.
В 1928 г. Лукину выпала редкая по тем временам возможность — командировка во Францию для научной работы. Он выбрал тему исследования в соответствии со своими представлениями об актуальности. Страсти по коллективизации в СССР[13] обусловили интерес к аграрной политике Конвента. В работе, задуманной (судя по предварительным публикациям) в 1928 г., Лукин сформулировал схему: поражение якобинцев объяснялось тем, что они утратили поддержку французской деревни. Введение твердых цен на хлеб оттолкнуло «сельскую буржуазию», но монтаньяры не смогли опереться на «сельский пролетариат». Негативный опыт якобинцев на этом поприще призван был подчеркнуть успехи большевиков, делавших ставку на усиление классовой борьбы в деревне. В принципе стиль работы был прежним — выдвигалась схема и под нее подбирались иллюстрации. Ради этого автор допускал смещение во времени. В аграрных беспорядках, происходивших после свержения якобинцев, он видел причины их поражения, а в протестах крестьян против «хлебного максимума» — классовый конфликт.
Но работа во французских архивах повлияла на закаленного в классовых битвах историка-марксиста, впервые погрузившегося в океан источников. Переживал ли он чувства, описанные Арлет Фарж в книге «Вкус к архивам»[14]? Как видно из статьи, опубликованной Лукиным в 1930 г., работа с документами не прошла даром. Вместо социальных этикеток, не имевших отношения к реальной истории, появилось многоцветье терминов — «cultivateurs» (земледельцы), «gros et petits fermiers» (крупные и мелкие арендаторы или, как вариант, — «откупщики»), «ménagers» (мелкие хозяйчики, бедняки, реже — «обыватели»), «journaliers» (поденщики), «mainouvriers» (работники, чернорабочие)… Картина эпохи оживала, становилась насыщенной. Но затем у классика советской науки, как и положено по канонам классицизма, долг брал верх над чувствами. Для намеченной схемы требовалось не богатство материала, а его унификация. И вот историк принимается укрупнять группы, стараясь загнать столь разных сельских жителей в привычные ящики: «сельская буржуазия» — кулаки, «мелкая буржуазия» — середняки, «сельский пролетариат» — батраки, мало считаясь с локальной спецификой, особенностями диалектов, разнообразием источников, не вникая в тонкости правового аспекта землепользования и землевладения. К счастью для французских крестьян XVIII в. эксперименты в области социальной таксономии уже никак не могли сказаться на их судьбе, тогда как современная Лукину советская деревня заплатила за это кровью.
Справедливости ради отмечу, что данный подход к работе с социальными категориями был свойственен не только молодой советской историографии и не только Лукину. Французская социальная история еще не очень скоро задумается над когнитивной стороной деятельности по описанию социальных структур. Все это будет гораздо позже — «Споры в Сен-Клу» о классах и сословиях при Старом порядке, попытки отыскать универсальную социальную иерархию и уж тем более размышления Н.Е. Копосова о том, как думают историки[15].
Чудинов отдает должное изменениям, которые произошли после знакомства историка-марксиста с богатством французских архивов, но общий вывод неутешителен — незавершенный труд Лукина отличался все тем же насилием над фактами и хронологией. Главная черта метода Лукина стала родовым свойством всей советской исторической школы. Напомню высказывание А. Момельяно о том, что в разговоре с советскими историками возникает «впечатление, что они имеют в кармане философский камень и поэтому могут лишь снисходительно смотреть на западных коллег»[16]. Не Лукин придал эти черты советской школе историков, но, по мнению Чудинова, Лукин именно потому и оказался во главе советской исторической науки, что по своим убеждениям и личным качествам наилучшим образом отвечал требованиям, предъявляемым к исторической науке политическим режимом, основанным на идеологии[17]. Иначе говоря, при всех заслугах советских историков, стакан оставался наполовину пуст, а в случае с Лукиным пуст минимум на две трети.
Но я бы отметил иное. Даже этот крайний случай показывает, что на треть наполненный стакан имел перспективу увеличения объема своего содержимого. В фундамент советской историографической школы была заложена способность к эволюции. Лукин бравировал ангажированностью историка, поставленного на службу пролетариату и партии, но перед советской исторической наукой в 1930-х гг. поставили задачу усилить не только идеологическую, но и научную составляющую, для чего и затеяна была масштабная реформа исторического образования. В душе советского историка пропагандист делился местом с ученым, если не от любви к истине, то — ad majorem Dei gloriam — ради торжества идей коммунизма. Это давало шанс приращению исторического знания.
Лукин оказался хорошим педагогом, воспитавшим сильных учеников, которые, как признает Чудинов, лучше работали с источниками, старались быть осторожнее в выводах, их знали зарубежные коллеги и иногда признавали их заслуги. Они оставались при этом советскими учеными все с тем же «философским камнем» во внутреннем кармане пиджака. Далеко не все из них оказались удачливы в создании научных школ, но все же их научные «дети», «племянники» и еще в большей степени «внуки» продолжили традицию изучения Французской революции вопреки всем испытаниям. И, как следует из книги Чудинова, в итоге у нас сегодня есть основания для осторожного оптимизма.
Следующий из «советских очерков» посвящен нашумевшей дискуссии ленинградского историка Владимира Ревуненкова с московскими наследниками школы Лукина, которые были обвинены им в идеализации якобинской диктатуры и в недооценке подлинно народного движения, представленного «бешеными» и парижскими секциями. Дискуссия развернулась в 1966—1970 гг. Ее отдаленные последствия испытал на себе сам Чудинов, когда в 1989 г. приехал на конференцию в Ленинград. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что исследовательские принципы оппонентов, круг рассматриваемых ими источников были практически идентичны. Спор касался подбора цитат из классиков и их толкования. Дискуссия вскоре угасла сама собой, но память о «споре столиц» осталась. Автор задается вопросом о причинах коллизии, перебирая различные версии. Наиболее правдоподобная — диссонанс в интерпретации взаимных действий. Возможно, критика якобинской диктатуры В.Г. Ревуненковым несла в себе косвенное осуждение сталинизма в духе поздних шестидесятников. Но представителями московской школы А.З. Манфреда и В.М. Далина сигнал трактовался иначе. И Лукин, и его ученики были жертвами сталинских репрессий, в условиях свертывания хрущевской либерализации в атаке на свою школу они увидели реванш сталинистов. К тому же большинство тех, кого критиковал Ревуненков, были евреями. Во второй половине 1960-х гг., когда началась кампания против сионизма, многие ожидали нового витка борьбы с космополитизмом. Достаточно вспомнить статью А.И. Данилова, опубликованную в 1969 г. в «Коммунисте», где он разоблачал ревизионистов-историков, список которых включал в основном еврейские фамилии. Поэтому ответная реакция была столь бурной. Нужно было обязательно обвинить в ревизионизме самого Ревуненкова. Бытуют и иные интерпретации: «гонение еврейской профессуры на русского ученого», «бунт провинциальных историков против московской гегемонии», «извечная конкуренция московской и питерской школ». Важнее было то, что участники дискуссии сформировались в период «высокого стиля» сталинской эпохи, когда истина, добытая при помощи единственно правильного метода, могла быть лишь одной. Получив одобрение партийного руководства, она становилась частью государственного знания. Борьба за право стать ее главным толкователем часто была борьбой за выживание не только в науке, но и в жизни. Если твой оппонент побеждал в научном споре, только публичное покаяние давало шанс уцелеть — разобраться в том, сознательно ли советский историк пытается ослабить науку, доверялось уже не только научным органам. В конце 1960-х гг. такое отношение казалось анахронизмом, но кто же знал, что страна вступала в период застоя, а не ресталинизации. Чудинов по этому поводу иронизирует: «И лишь одна версия, похоже, выглядела настолько невероятной, что даже не обсуждалась, — то, что столь острый спор его участники могли вести о сугубо научной проблеме, не вкладывая в него дополнительно никакого скрытого смысла»[18].
Я уже говорил о страсти автора к собиранию разных бумажек в надежде обрести в них историографический источник. О том, насколько оправданны его ожидания, можно судить по очерку «На закате эпохи», в основе которого лежат служебные записки о подготовке к 200-летнему юбилею Французской революции. Записки датированы 1981—1983 гг., до праздника было еще далековато, но страна жила от юбилея к юбилею, причем основательность подготовки к каждой следующей дате имела тенденцию к возрастанию. Ожидалось, что 200-летие революции станет демонстрацией успехов советской науки, возглавившей все прогрессивные силы мировой историографии. Планировалось провести международные конференции, опубликовать объемный коллективный труд, а дальше ежегодно отмечать двухвековой юбилей следующего революционного события — клятвы на Марсовом поле, победы при Вальми, провозглашения республики и т.д. Этим мечтам не суждено было сбыться. И дело не только в перестройке и последующих тектонических сдвигах. Все началось раньше.
18 ноября 1981 г. заведующий сектором новой истории Института всеобщей истории Е.Б. Черняк составил служебную записку на имя директора института. Указывалось на непреходящее значение Великой Французской революции, на усиление идеологической борьбы вокруг ее интерпретации, на необходимость советским историкам быть во всеоружии для отпора буржуазным фальсификаторам. Для этого предполагалось издать фундаментальный труд, серию монографий и том с публикацией источников, получив под это новые ставки для перспективных сотрудников и даже организовав им командировки для работы в зарубежных архивах. Черняк, как опытный руководитель, запрашивал по максимуму, чтобы получить хоть что-то, он не требовал невозможного — изучать Французскую революцию предполагалось в архивах не Франции, а социалистических стран — Венгрии, Чехословакии, ГДР. Директор ИВИ З.В. Удальцова, в свою очередь, направила аналогичную записку в Международный отдел ЦК КПСС[19]. С одной стороны, в этом документе еще настойчивее напоминалось о долге советской науки принять участие в идеологическом противоборстве, с другой — ставились более масштабные задачи: наметить пути сотрудничества с прогрессивными французскими учеными и придать запланированному фундаментальному труду максимально широкий характер, изучив не только саму революцию, но и отклики на нее во всем мире. Объяснялось также, почему работу нужно начать сейчас, словом, все соответствовало научно-бюрократической логике. Но через год на имя директора ИВИ поступила еще одна докладная Е.Б. Черняка, которая, по сути, отменяла предыдущий запрос. Выяснилось, что после ухода со сцены учеников Лукина взвалить на себя титаническую работу некому: немногие из оставшихся в строю сотрудников к масштабному синтезу не были готовы, а молодых ученых, способных заполнить образовавшуюся брешь, в институте не имелось и не предвиделось.
Признать, что советская школа изучения Французской революции изжила себя, было непросто, поэтому в качестве аргумента привели загруженность ученых подготовкой многотомной «Истории Европы»[20]. Чтобы как-то выйти из положения, решили переиздать архаичный «кирпич» 1941 г.[21], лишь косметически подправив его и обновив историографические разделы. Протокол заседания рабочей группы передает некоторое замешательство присутствовавших: если издать неопубликованные источники было возможно, то новой концепции революции не было, а старая уже не вполне годилась. Должностные записки не лгали — на Западе стремительно обновлялось изучение Французской революции, и советскую науку, вооруженную поновленным сталинским «кирпичом», ждала своя Цусима. К счастью, проект издания заглох сам собой, отодвинутый на второй план последующими событиями.
Полагаю, что этот эпизод иллюстрирует не столько исчерпанность старой парадигмы, сколько кризис именно академической науки. Время в академическом институте текло неспешно: сотрудник, не достигший 50-летнего возраста, всё ходил в «молодых», случившееся четверть века назад считалось чуть ли не вчерашним днем, достижения великих мэтров казались незыблемыми, и в лучах их славы последователи и эпигоны чувствовали себя уверенно. Самым главным был разрыв науки и преподавания. Это и сегодня мешает притоку молодежи в уцелевшие академические институты. Во второй половине 1980-х гг. в историческую науку придут талантливые ученики историков, находившихся отчасти на положении «аутсайдеров» по отношению к академическому ядру, — А.В. Адо, преподававшего в МГУ, и Г.С. Кучеренко, читавшего лекции в МГПИ. Но это уже другая история.
Эта наступившая другая история описывается Чудиновым в следующих шести очерках, повествующих о событиях, в которых он принимал деятельное участие или которые он сам наблюдал. Здесь и рассказ о судьбоносном круглом столе 1988 г., во время которого можно было разглядеть, как пробиваются ростки новой историографии, здесь и констатация радикальной смены парадигм где-то в районе миллениума, здесь и захватывающий рассказ о возрождении «Французского ежегодника» и о его последующей судьбе, напоминающей езду по американским горкам, и, наконец, прогноз развития отечественной школы историков Французской революции с обзором состояния французских исследований по этой теме.
Все это происходило уже и на моей памяти. Наблюдая за происходящим издали, я с предсказуемым удивлением отмечал, насколько быстро недавние события превращаются в легенды историографии. Выражения, которые еще вчера казались шутливой метафорой или даже обидным прозвищем, становились устойчивыми историографическими терминами. В 1990-е гг. Александра Чудинова и Дмитрия Бовыкина называли «новыми русскими франковедами», намекая на то, что они в «приличном историографическом сообществе» смотрятся как новые русские бизнесмены в малиновых пиджаках. Сегодня же это вполне устоявшийся академический термин, к тому же ставший самоназванием. Так часто бывает, ведь «гёзы», «гугеноты», «виги», «тори» изначально были уничижительными кличками, превратившимися затем в гордые имена партий. Вычурные заголовки статей, бывшие парафразом названий общеизвестных сочинений, быстро разрывали пуповину и воспринимались абсолютно самостоятельно. Например, свой аналитический обзор круглого стола 1988 г. для журнала «Новая и новейшая история» Чудинов провокационно назвал «Размышляя о Французской революции», отсылая посвященных к работе главного ревизиониста Франсуа Фюре[22], но принцип sapienti sat не сработал. Главный редактор строго указал молодому автору, что «размышлять могут себе позволить только доктора наук и выше». Автор тогда согласился на рутинное название «Назревшие проблемы изучения истории Великой Французской революции», но при переиздании материала, конечно же, вернул эпатажное название. Несмотря на замечание главреда-академика, он позволял себе размышлять о Французской революции в статусе кандидата. Не отказался он от этой привычки, и став доктором наук.
После десятилетнего перерыва Чудинову удалось возобновить выпуск обновленного «Французского ежегодника» — без всякого августейшего на то соизволения, без административного ресурса, без постоянной финансовой поддержки. Ежегодник, как и положено революционному изданию, стал не только агитатором и пропагандистом, но также и коллективным организатором. Сложилась сеть авторов — дисперсная периферия и твердое ядро, в эту сферу потянулась молодежь, наладились связи с зарубежными коллегами, прах старой советской концепции Французской революции давно отряхнут с ног историков — все это позволяет автору говорить об «оптимистическом рондо».
Первый же номер «Французского ежегодника», возрожденного после десятилетней спячки, открывался программной статьей Чудинова «Смена вех: 200-летие Французской революции и российская историография». И вновь не только западные, но и отечественные историки забыли, что название статьи было парафразом заголовка пражского сборника русских эмигрантов, объявивших о пересмотре отношения к своей революции. Подведя итог отечественным публикациям десяти-пятнадцати лет и соотнеся их с трендами западной историографии, автор выносил революции приговор не менее суровый, чем решения Революционного трибунала. Революция не была ни «Великой», ни буржуазной, ни антифеодальной, ни антиабсолютистской и не способствовала экономической модернизации страны. Думаю, что если бы французы вовремя не обозвали происходящее у них «революцией», то сейчас им бы точно было отказано и в этом термине, как это произошло со знакомыми нам Английской и Нидерландской революциями. «Буржуазных революций не бывает!» — гласит русское предисловие к одной из американских книг о модернизации[23]. Мне бы не хотелось выступать адвокатом «классической» интерпретации Французской революции, тем более что клиенту Революционного трибунала полагался не адвокат, а гильотина. Однако отмечу, что данный приговор направлен исключительно против советской концепции революции, причем максимально окарикатуренной. Кто сказал, что характер революции определяется составом ее участников или хотя бы руководителей? «В Нидерландах не было революции, а была 80-летняя война, потому что адмирал Горн, граф Эгмонт и принц Оранский были аристократами, а не купцами», — отвечают мне продвинутые студенты на экзаменах. Но я что-то не помню засилья потомственных пролетариев в ЦК РСДРП. Боюсь, что субъект — «революция» — настолько сросся с предикатом (социалистическая, буржуазная и даже «феодальная»), что мы долго еще будем иметь дело с призраком исторического материализма. Сегодня у нас нет даже намека на конвенциальное определение революции. Само по себе это не так уж и страшно, надо просто осознать это и указать, с чем именно собираешься бороться.
Сдвиги в сознании историков, безусловно, идут. Заканчивая обзор актуальной французской историографии, Чудинов отмечает перемены: ушел тезис о кризисе общества Старого порядка и о благотворном влиянии революции на развитие экономики. Вместо причины (или причин) Французской революции говорят о ее «истоках», изживая не только монизм, но и детерминизм. Часто, вспоминая Кошена, стали говорить об обвальном кризисе прежних норм политической культуры и форм ее выражения, на смену которым шли новые дискурсы, конкурирующие друг с другом в своей радикальности. Но порой всплывают на поверхность узнаваемые конструкции «классической» концепции. Например, «теория обстоятельств», согласно которой якобинский террор был вызван чрезвычайной ситуацией, когда интервенции и голод сочетались с крестьянскими восстаниями и заговорами в городах, что требовало жестоких мер. Прямо как Лукин, историки допускают при этом хронологические сдвиги — ведь маховик террора в городах и «франко-французского геноцида» в Вандее и Бретани раскручивался главным образом тогда, когда основная военная угроза уже была снята.
Для того чтобы найти хоть какое-то новое объяснение революционной истории, по мнению Чудинова, надо рассматривать революцию лишь как предмет изучения, забыв о том сакральном месте, которое занимал ее образ в политической культуре Франции, и он выражает надежду, что рано или поздно это произойдет.
Значит ли это, что и у нас революция перестала занимать сакральное место и «Новая русская школа» порадовала бы Герье, отмечавшего беспристрастность как преимущество российского историка[24]?
Похоже, что дружественная мне корпорация российских историков Французской революции уже достигла этого просветленного состояния, хотя бы в силу отсутствия властного заказа на их деятельность в современной России. Но все не так просто, в чем я убедился по реакции участников уже упомянутого ток-шоу, узнавших, что Французскую революцию нынче не называют Великой. Апологетическая концепция устойчиво царит в школьных программах и учебниках (кроме тех, которые пишут сами «новые русские франковеды») и, что важнее, в головах историков, не занимающихся именно этой тематикой. И это уже серьезнее. Парадоксальным образом подтвердилось утверждение Манфреда, что стрелы, пущенные против революции, метят в революцию русскую. Во всяком случае, «смена вех» коснулась и оценок того, что сейчас велено называть «Великой русской революцией». Достаточно почитать выкладки Бориса Миронова, чтобы усомниться в кризисе «старого порядка» в Российской империи. Отечественным адептам «теории обстоятельств» как оправдания революционных атрибутов от террора до Голодомора можно возразить примерно то же, что и французским защитникам монтаньяров. А события, начавшиеся в нашей стране 30 лет назад, которые стыдливо не называют революцией? Разве не применимы к ним привычные клише Французской революции, пожравшей своих детей, познавшей и свой Термидор, и свое 18 брюмера?
Нет, думаю, если и суждено нам избавиться от наследия Французской революции, хоть и не Великой и не буржуазной, то это случится нескоро.
[1] 14 июля во Франции отмечают «Национальный праздник», учрежденный в 1880 г. не столько в память о взятии Бастилии и о начале революции (воспоминания об этом тогда отторгались значительной частью французского общества), сколько в честь праздника Федерации 14 июля 1790 г., продемонстрировавшего единение короля и всего народа, завершившееся знаменитой клятвой на Марсовом поле.
[2] Кондратьева Т.С. Большевики-якобинцы и призрак Термидора / Пер. с фр. Е.А. Лебедевой и Т.Б. Пошерстник. М.: Ипол, 1993.
[3] Гордон А.В. Власть и революция: Советская историография Великой французской революции 1918—1941. Саратов: Научная книга, 2005.
[4] Чудинов А.В. История Французской революции: пути познания. М.: РОССПЭН, 2017. 279 с. 1000 экз. (Мир Французской революции).
[5] Janneney J.-N., Guérot J. L’Histoire de France vue d’ailleurs. P.: Les arènes, 2016.
[6] Чудинов А.В. Французская революция. История и мифы. М.: Наука, 2007.
[7] История Франции: В 3 т. / Под ред. А.З. Манфреда. М.: Наука, 1973.
[8] Русская публика была уверена, что это точный перевод с французского. Кареев вообще оказался мастером внедрять в отечественное сознание термины, казалось бы общеупотребительные на Западе, на деле же пустившие корни лишь на нашей российской почве. Введенный им термин «сословное представительство» отсутствует в европейских языках, но он так хорошо соответствовал ожиданиям русского общества начала века, что моментально был принят к использованию историками и не только ими (см.: Бойцов М.А. Сословное представительство: Ошибка перевода? // Средние века: Исследования по истории Средних веков и раннего Нового времени. 2014. Вып. 75 (3/4). С. 65—78).
[9] Кареев Н.И. Тэн перед судом Олара // Русское богатство. 1908. № 7. С. 171. Цит. по: Чудинов А.В. История французской революции. С. 25.
[10] Cochin A. La Machine révolutionnaire: Œuvres / Avec la contribution de D. Sureau; préface de P. Gueniffey. P.: Tallandier, 2018.
[11] В этом было легкое лукавство, поскольку тема, конечно же, не была чуждой аспиранту. Но поскольку его диссертация была посвящена мнениям англичан о Французской революции, то он формально не считался специалистом по французской истории.
[12] Вряд ли самого Кошена стоит считать антисемитом. Он происходил из семьи ревностных католиков, которая, однако, отказалась поддержать антидрейфусаров.
[13] Не лишним будет напомнить, что Н.М. Лукин был двоюродным братом Н.И. Бухарина.
[14] Farge A. Le gout des archives. P.: Le Seuil, 1989.
[15] Копосов Н.Е. Как думают историки. М.: НЛО, 2001.
[16] Цит. по: Ingerflom C.S. Moscou: Le procès des Annales // Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1982. 37e année. № 1. P. 71. Note 4.
[17] Чудинов А.В. История Французской революции. С. 100.
[18] Там же. С. 116.
[19] Письмо было адресовано первому заместителю главы Международного отдела ЦК КПСС В. Загладину, который был большим энтузиастом изучения истории Франции.
[20] История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. / Под ред. А.О. Чубарьяна и др. М.: Наука, 1988—2000. Т. 1—5. Это звучало странно, поскольку четвертый том, посвященный истории Нового времени, вышел только в 1994 г., спустя 10 лет.
[21] Французская буржуазная революция 1789—1794 / Под ред. Е.В. Тарле и В.П. Волгина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
[22] Furet F. Penser la Révolusion Françaisе. P.: Gallimard, 1978. Когда Фюре во время перестройки приехал во Французский колледж в Москве, зал был набит битком. Но сидевшая рядом со мной Галина Сергеевна Черткова (1938—2001) иронично заметила: «Наш институт, как всегда, блистает своим отсутствием».
[23] Дерлугьян Г. Буржуазных революций не бывает! // Лахман Р. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени / Пер. с англ. А. Лазарева. М.: Территория будущего, 2010. С. 7—12.
[24] См.: Чудинов А.В. История Французской революции. С. 21.
