Инна Булкина
Спойлер одного сайнстеймента
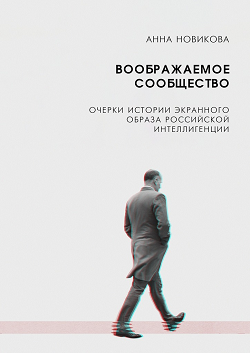
Новикова А.А. Воображаемое сообщество: очерки истории экранного образа российской интеллигенции.
М.: Согласие, 2018. — 198 с. — 500 экз.
В коротком Прологе Анна Новикова определяет формат этой книги как «научно-развлекательный сериал» (сайнстеймент) с элементами «бизнес-тренингов», — иными словами, перед нами набор «серий-историй» про неких героев («членов воображаемого сообщества») с короткими «тезисами» (спойлером?) в конце каждой серии. При этом Новикова сразу же оговаривает, что такой формат — не уступка развлекательности и что книга предназначена не только для ленивых студентов, «не желающих читать длинные тексты», напротив, перед нами «поиск форм изложения истории, позволяющих сохранять и адаптировать культурные ценности к изменяющимся языкам коммуникации» (с. 8).
Но, как бы там ни было, не ожидая от такого «адаптированного» формата академически последовательного изложения, отметим, что титульная «интеллигенция» по умолчанию подается как «воображаемое» (и «воображенное», т.е. сконструированное) сообщество по Б. Андерсону, и лишь затем, как нечто само собой разумеющееся, сообщается, что речь идет не об интеллигенции в простом социологическом смысле (профессионалах умственного труда) и не об интеллигенции в «русском смысле», т.е. не о некоем морально-этическом феномене, но о «публичных интеллектуалах в российской версии» (с. 13). Чуть ниже, на с. 15 появляется известное определение Д.С. Лихачева из книги «Письма о добром и прекрасном»: интеллигентность — это восприимчивость, «способность понимать другого». Новикова почему-то пишет с прописной буквы — «Другого», при этом вряд ли она искажает цитату сознательно, — это было бы странно, скорее всего, она воспроизводит шиболет массового бахтинианского дискурса, столь популярный в провинциальной гуманитаристике. Добавим, что Д.С. Лихачев, по всей вероятности, был знаком с различными философскими трактовками Другого, но в «Письмах» ни к одной из них не апеллировал, и более того: он не имел в виду «публичных интеллектуалов» ни в российской, ни в какой бы то ни было иной версии, пафос его был прямо противоположен — в качестве примера интеллигентской «восприимчивости» он приводил крестьян русского Севера. Между тем, уже в следующей главе появляются П. Бурдьё, Дж. Томпсон и «символическая власть», «интеллигент» оказывается «медиатором» между «тремя культурами» (по прот. Александру Шмеману), «идеологом», «исполнителем» и бог знает кем еще, — вероятно, тут подключается «теория элит» (опять-таки по умолчанию). Все эти разноречивые дефиниции множатся с каждой страницей; сам Лихачев в перечне «действующих лиц» «первой серии» назван «публичным интеллигентом» (sic!), и это можно было бы счесть за иронию, но здесь нет терминологической рефлексии как таковой, и в каждой следующей главе структура и функции титульной «интеллигенции» изменяются. Это отчасти можно было бы объяснить историческими интенциями исследования, коль скоро перед нами «очерки истории экранного образа» и предполагается некий продолжительный временной промежуток, на протяжении которого представления об интеллигенции и «образы» ее менялись. Однако истории и исторической логики здесь искать не стоит, — в теоретическом и методологическом плане весь этот «сайнстеймент» не более чем коллаж. Однако даже смысл коллажа как приема (соединение разнородных элементов) здесь едва ли подразумевается.
С «экранными образами» Анна Новикова работает в тех же правилах, вернее, при полном отсутствии правил. В этой «истории» нет хронологической последовательности. В первой главе ее героями становятся лицеисты Пушкин и Кюхельбекер, и речь идет о фильмах
Далее исследовательница стремительно разбирается с «местом обитания» («Домом») и «кругом чтения». История «круга чтения» — от «Нивы» до «Огонька» — вместе с длинными и беспорядочными цитатами из Чехова, Честертона и бульварных газет, примечательна, кажется, лишь тем, что, увлекшись криминальными газетными историями, Новикова напрочь забывает об «экранных образах»: в этой главе их нет вовсе. В следующей главе мы узнаем, что для поэта Александра Блока главными из искусств были кино и цирк, иными словами, речь там идет о массовом синематографе начала ХХ в., и точно так же не вполне понятно, как это согласуется с историей «экранного образа российской интеллигенции».
Справедливости ради отметим, что в шестой главе («Идеалисты и идеологи») Анна Новикова возвращается к своей теме, и на страницах книги появляется наконец канонический «интеллигент» советского кинематографа, сухопарый и старообразный, с чеховской бородкой клинышком. Здесь упоминается чрезвычайно важный для «истории экранного образа», как визуального, так и идеологического, фильм 1918 г. «Уплотнение» (реж. А. Пантелеев по сценарию А. Луначарского). Впрочем, даже при том, что старый профессор в исполнении тогдашнего главы Петроградского кинокомитета химика Дм. Лещенко невероятно похож на всех последовавших затем профессоров из советских комедий, а сюжет этой — одной из первых советских агиток — достаточно характерен (добавим, что в общих чертах он воспроизводится в «Семейном портрете в интерьере» Л. Висконти, но никак не в «Блондинке за углом» В. Бортко, поминаемой зачем-то в связи с «Уплотнением» на с. 76), остается не вполне понятным и никоим образом не объясняется, как именно эта лента, напечатанная мизерным тиражом, получила столь значимый резонанс. Явившийся почти 20 лет спустя после «Уплотнения» «седой юноша» Н. Черкасова («Депутат Балтики») в этом смысле гораздо убедительнее. Наверное, имело бы смысл развивать продуктивное наблюдение о профессорах-эксцентриках и об однообразной гротескности старых интеллигентов в советских комедиях 1930–1960-х, но Анна Новикова стремительно переключается на ученого — героя-любовника из «Аэлиты» (1924), вновь сообщая, что именно этот фильм лежит в основе клише (с. 70), и никоим образом не трудясь это доказать. Затем она сообщает, что «одним из важнейших для формирования ценностей интеллигенции в ХХ веке» оказывается «мотив путешествия», и вспоминает для подтверждения этой оригинальной идеи популярную песню
Затем следует глава о шестидесятниках, так что в итоге физики из «Девяти дней...» оказываются за бортом присущей им эпохи, зато в ряду шестидесятников неожиданным образом оказывается режиссер Ю. Кара с «перестроечным» фильмом «Завтра была война» (1987) по одноименной повести Б. Васильева (1972). В разделе о «комедиографах-восьмидесятниках» интересным и продуктивным сюжетом могло бы стать сопоставление культовых, но принципиально различных по характеру юмора комедий Рязанова, Гайдая и Марка Захарова, равно как и продолжение исторической перспективы, мельком заявленной в наблюдениях над гротесковыми профессорами из первой советской агитки и фильмов 1930–1950-х. Однако Анна Новикова категорически не видит разницы между героями Гайдая и Рязанова, ни в одного из них «зрителю невозможно влюбиться», — утверждает она, они равно смешны, несимпатичны и «не вызывают восхищения» (с. 95). И проблема не в том даже, что исследовательница не пытается объяснить различие в жанре, приеме и — по большому счету — в эстетической идеологии Гайдая и Рязанова, но в том, что «измельчавшими» и «постоянно проигрывающими» интеллигентами здесь оказываются неизменно преуспевающий в финале своих приключений трикстер Шурик, лирический герой и любимец советских женщин Женя Лукашин и предприимчивые «старики-разбойники» (Ю. Никулин и Е. Евстигнеев), тоже, к слову, в финале одержавшие победу над циничным персонажем Андрея Миронова.
Последние главы посвящены 1990–2000-м, кинематограф с его «экранными образами» сменяют телевидение и интернет. Одним из главных персонажей «телевизионного» раздела становится Л. Парфенов, который в 1997 г. «десакрализирует в глазах своих зрителей телевизионные образы руководителей СССР, созданные в свое время официальной хроникой и журналистами программы „Время“» (с. 110). Напомним, что речь идет о тех самых «руководителях СССР», чьи «сакральные образы» сначала фигурировали в анекдотах и были «десакрализованы» на интеллигентской кухне
Можно и дальше множить примеры логических и терминологических несуразностей, на которые столь богато «Воображаемое сообщество...» Новиковой, но мы вернемся к оригинальному формату и жанру — пресловутому сайнстейменту, адаптирующему «культурные ценности к изменяющимся языкам коммуникации» (с. 8). Ключевой прием такой «адаптации» — случайный парадигматический перебор культурных реалий, а обращение с теоретическим аппаратом замечательным образом иллюстрируется все той же «вселенной мифа», которая имеет отношение не столько к настоящей культурной мифологии, сколько к каким-нибудь «глянцевым» «Империи меха» или «Миру офисной мебели».
