Андрей Ильин
Герцен открывает случайность
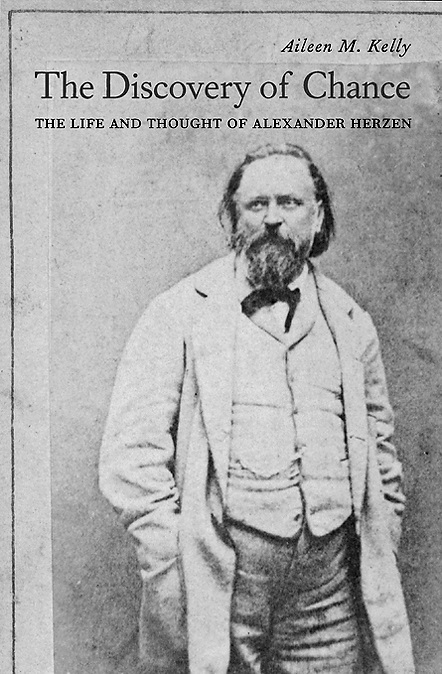
Kelly A. The Discovery of Chance: The Life and Thought of Alexander Herzen.
Cambridge: Harvard University Press, 2016. — 608 p.
Прошло время, когда составление научной биографии Герцена было невозможно без новых архивных изысканий. Сегодня, когда основные факты уже широко известны, интерпретация становится важнее открытия нового. В соответствии с этой тенденцией книга британской исследовательницы Айлин Келли «Открытие случайности: жизнь и мысль Александра Герцена» основана на новой, весьма оригинальной идее, а не на характерном для многих биографов стремлении охватить все, что так или иначе связано с жизнью их героя. Вместе с тем это масштабная и разносторонняя работа, продолжающая многолетние исследования, которые Келли посвятила Герцену и интеллектуальной истории России его времени.
Главная идея книги такова: большую часть жизни Герцен находился под влиянием естественных наук (прежде всего биологии), во многом поэтому он пришел к признанию случайности как основополагающего философского принципа, а также к философскому монизму, гуманизму в морали, либерализму и социализму в политике.
Именно благодаря увлечению естественными науками, полагает Келли, Герцен был внимателен к фактам и с недоверием относился к абстрактным объяснительным схемам; знакомство с естественной историей, эмбриологией и сравнительной анатомией привело его к мысли об основополагающем значении случайности в природе и истории. Келли называет Герцена «глашатаем истины» (с. 4), одним из немногих современников, кто, как и Ч. Дарвин, смог принять идею случайности. Она неоднократно называет случайность «немыслимым» XIX века, опасной, подрывной идеей, которую окружал суеверный заговор молчания во имя представления о человеческой исключительности, сохранения привычных и комфортных метафизических идей.
Случайность, критика телеологии и веры в историческую и метафизическую необходимости давно интересовали Келли[1]. Близкого к этим идеям Герцена она, используя теорию Р. Рорти, интерпретировала как «либерального ироника»[2]. Показательно, что в «Открытии случайности» о Рорти говорится лишь однажды, тогда как на первый план в качестве теоретика случайности вышел еще более ориентированный на естественные науки автор — биолог-эволюционист С.Дж. Гулд. Говоря о случайности (chance), Келли подчеркивает, что речь идет не о непредсказуемом хаосе, а скорее о стохастических процессах, которые поддаются анализу и прогнозированию. Вероятно, во всем этом можно увидеть влияние интеллектуального климата нашего времени, который во многом определяется смещением интереса с нестрогих «постмодернистских» подходов к естественным наукам и эволюционизму[3]. Герцен-ироник уступил дорогу Герцену-сциентисту.
Келли скептически оценивает попытки сблизить философские взгляды Герцена с идеями М. Штирнера, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра и А. Камю или с русской религиозной философией XIX—XX вв. (см. с. 341, 353). Она полагает, что влияние метафизики и религии на мысль Герцена было весьма ограниченным. Герцен не был ни ницшеанцем, ни «экзистенциалистским анархистом» — от этого его удерживали рационализм, здравый реализм и приверженность естественно-научному взгляду на мир (с. 393—394). Эти же качества, считает она, удерживали Герцена от славянофильской критики западной цивилизации. Келли сетует на традиционный интерес исследователей к иррациональной и религиозной сторонам русской культуры, из-за доминирования которого влияние науки на развитие в России общественно-политической мысли незаслуженно преуменьшается. В этой связи она критикует неоправданно большое внимание герценоведов к иррациональности, а также к религиозности, имплицитно или потенциально присущей его мысли[4].
Вслед за своим учителем, И. Берлином, Келли доказывает, что Герцен был не только трезвым реалистом, но и либералом[5]. Закономерно она выступает против советской историографии, стремившейся, в соответствии с известной формулой Ленина, показать Герцена участником революционного движения, соединяющим декабризм с эпохой революционеров-разночинцев. Мишенью критики Келли стали также Л. Шапиро и А. Валицкий, сделавшие акцент на нелиберальных чертах Герцена, таких как подозрительное отношение к идее права и либерально-демократическим институтам в целом.
Еще одним заочным оппонентом Келли становится известный биограф Герцена М. Малиа, который представил его как увлекавшегося несбыточными проектами, эгоистичного мечтателя, а не серьезного и рационального политика и мыслителя. Малиа предлагал преимущественно психологические объяснения тем или иным идеям и поступкам Герцена, за которыми, как он считал, зачастую не стояло ничего, кроме стремления к самовыражению и решению своих психологических проблем[6].
Келли строит свое изложение вокруг главного тезиса, поэтому некоторым традиционным сюжетам из биографии Герцена (в частности, относящимся к личной жизни) отводится скромное место, тогда как другие приобретают первостепенную важность[7]. Келли отказывается от строго последовательного изложения, часто возвращаясь к одним и тем же событиям, чтобы рассмотреть их под другим углом.
В первых главах Келли дает краткий очерк истории европейской науки, а также анализирует связь естествознания и политической мысли эпохи Просвещения. Отдельный очерк посвящен истории другой важной для Герцена традиции — немецкого романтизма и идеалистической философии. Переходя к биографии Герцена, Келли сосредоточивается на годах, предшествовавших аресту 1834 г. Согласно ее теории, в этот период важную роль в интеллектуальном развитии Герцена сыграли естественные науки. Келли подробно останавливается на учебе в Московском университете и влиянии на Герцена профессоров, особенно ботаника М.А. Максимовича. Она настаивает, что Герцен вышел из университета сторонником строгой эмпирической науки, весьма скептически настроенным по отношению к натурфилософии и шеллингианству, хотя и не избавившимся полностью от их влияния. Во многом ее анализ основан на нескольких ранних статьях Герцена, прежде всего на статье «О месте человека в природе», которую Келли прочитывает как критику натурфилософских спекуляций с позиций серьезного естествознания. Кроме того, по мнению Келли, уже эта статья Герцена несет на себе печать будущего интереса к случайности и эволюционизму.
За естественно-научным периодом и первым приближением к теме случайности последовали почти десять лет ссылок, и в этот период Герцен явно предпочитал случайности метафизическую необходимость. Его увлечение мистицизмом и религией Келли считает временной и не очень значительной аберрацией, вызванной тяжестью ссылки и крушением прежних надежд. В этом свете выглядит закономерным, что после окончательного возвращения в Москву в 1842 г. Герцен возобновил научные штудии. Он много читал, посещал в Московском университете лекции по естествознанию и занятия по анатомии. Его «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» Келли считает наброском нового метода научного исследования, в котором эмпиризм соединялся бы с гегельянской теорией и политическим активизмом.
Примерно в середине 1840-х гг. Герцен открывает для себя природную случайность, которая поначалу не вызывает у него никакого энтузиазма. Этому эпизоду посвящена одна из самых изящных и убедительных частей книги. На основе дневника, писем и статей Герцена Келли показывает, что интерес к новейшим исследованиям в эмбриологии и постоянные опасения, связанные с неудачными беременностями жены, привели Герцена к метафоре плода, чье развитие зависит от слепого случая. С этого момента и до конца жизни эмбриология становится важнейшим источником настойчиво повторяющихся образов, на которых Герцен во многом строит свою философию истории — случайного и полного опасностей процесса развития идей и институтов.
Во второй половине 1840-х гг. он, согласно Келли, примиряется со случайностью как философской проблемой, чтобы затем столкнуться с ней на практике в ходе революций 1848—1849 гг. Однако его представления о случайности все еще были ограничены некоторыми идеалистическими и нереалистическими идеями, прежде всего — мессианским национализмом и в какой-то мере — теорией общинного социализма. Полный отказ от любых иллюзий произошел в результате событий 1863 г.: Польского восстания и резкого падения популярности Герцена в России. В это время он окончательно отказался от веры в историческую необходимость и признал, что общинный социализм является лишь одним из многих возможных путей в развитии России и мира. В последние годы жизни Герцен, как настаивает Келли, — реалист и либерал в полном смысле этого слова.
Важным фактором, повлиявшим на отказ Герцена от иллюзий, исследовательница считает его споры рубежа 1850—1860-х гг. с русскими либералами: К.Д. Кавелиным, Б.Н. Чичериным и Н.И. Тургеневым. Келли предлагает оригинальную трактовку этих столкновений, доказывая, что именно Герцен, а не его противники, может считаться подлинным защитником либеральных идей и ценностей. Анализируя взгляды Кавелина и Чичерина, Келли ищет их истоки в политической теории Гегеля периода «Философии права», основанной на этатизме и логической необходимости. Она критикует позицию известного современного гегельянца и коммунитариста Ч. Тейлора и настаивает, что идеи Гегеля не могут быть основой ни для какой версии либерализма. То же относится и к русским гегельянцам Кавелину и Чичерину, во взглядах которых она подчеркивает оправдание неограниченной монархии, невнимание к гражданскому обществу и свободам личности, а также убежденность в том, что предлагаемый ими исторический путь развития — единственно возможный. Она представляет их апологетами авторитарной власти, а в их теориях находит переклички с позднейшими идеями сталинизма (Кавелин оправдывал опричный террор и политику Петра I (с. 388)) и ленинизма (Чичерин высказывался в пользу сильного правительства и применения им грубой силы (с. 398)). На их фоне Герцен выглядит отнюдь не радикальным визионером, а прагматичным сторонником прав личности и ограничения государственной власти.
Говоря о Тургеневе, Келли настаивает, что тот тоже никогда не был твердым приверженцем западничества и либеральных ценностей, которые он защищал в споре с Герценом. «Космический пессимизм, а не либеральный прагматизм» (с. 448) заставил Тургенева сомневаться в том, что идеи Герцена могли бы когда-нибудь реализоваться на практике. Келли пишет, что западный путь развития не вызывал у Тургенева энтузиазма, но лишь представлялся наименьшим злом.
Не менее далеки от традиционных ее оценки Н.П. Огарева. Келли подчеркивает его роль в интеллектуальной биографии Герцена, отмечая, что долгое время Огарев уделял естественным наукам даже большее внимание, чем сам Герцен. Она пишет, что первый не только не был «идеологической тенью» (с. 253) второго, но часто оказывал на Герцена заметное влияние.
Келли проводит параллели не только с Огаревым, но и с внушительным количеством других авторов. Она не отрицает, что все они придерживались разных взглядов и относились к разным интеллектуальным традициям, однако почти в каждом подчеркивает те черты, которые также находит у Герцена: рациональность и реализм, интерес к науке и политическую умеренность. Особое место в этом ряду занимает Ч. Дарвин, сближение с которым, впрочем, в большей степени является плодом рациональной реконструкции и философского подхода, а не анализа исторического материала. Келли уделяет значительное внимание Ж.Л. Кювье, М.А. Максимовичу, М.А. Бакунину, В.Г. Белинскому, П.Я. Чаадаеву, Ф. Шиллеру, Гегелю, Л. Фейербаху, П.-Ж. Прудону, Дж.С. Миллю и Д.И. Писареву. Также этот список включает более далеких от Герцена авторов, в частности Ф. Бэкона, Ж.-Л.Л. Буффона, Ш. Монтескьё, Ж.Б. Ламарка, И.Г. Гердера, И.В. Гёте, П. Леру, Л. Блана, П.С. Балланша, Ф.Р. Ламенне, А. Сен-Симона и А. Руге. Каждому посвящены отдельные, в некоторых случаях многостраничные, очерки.
* * *
Книга далека от сухого объективистского анализа, потому в ней есть место оценкам. Авторские симпатии вполне очевидны, но все же исследование Келли далеко от парадного портрета, в нем подчас заметно критическое и даже ироническое отношение к главному герою. Как и любой биограф Герцена, Келли во многом ориентируется на «Былое и думы», но вслед за Л.Я. Гинзбург полагает, что мемуары Герцена не являются документально-точным произведением. Она показывает, что в «Былом и думах» присутствует преследующий художественные и политические цели вымысел, позволивший Герцену создать себе образ независимого интеллектуала, последовательного республиканца, социалиста, атеиста и материалиста. Келли пишет, например, что отношение Герцена к крестьянству долгие годы не выходило за рамки принятого среди дворян патерналистского и несколько презрительного взгляда. Также она демонстрирует, что Герцен явно преувеличивал радикальность своих юношеских взглядов (в частности, свой интерес к сенсимонизму и первому «Философическому письму» Чаадаева), а также смелость своего поведения на следствии в 1834—1835 гг. Она замечает, что многие сюжеты, связанные с личной жизнью Герцена, в его изложении отличаются заметной тенденциозностью. Продолжая эту линию критики, Келли показывает на примере «Феноменологии духа» Гегеля и «Философии нищеты» Прудона, что Герцен, вполне вероятно, прочел далеко не все книги, о которых рассуждает в своих произведениях. Показывая эмпирический и взвешенный подход Герцена ко многим проблемам, Келли тем не менее отмечает, что, например, теория общинного социализма поразительным образом сочеталась у него с почти полным отсутствием интереса к экономике сельского хозяйства, к особенностям крестьянского быта и психологии. Его взгляды на эти вопросы, в частности выраженные в художественных произведениях 1840—1850-х гг., она сравнивает с сентименталистскими и романтическими пасторалями.
Между тем, в некоторых случаях представленный в книге критический анализ оказывается не столь последовательным. Нередко либеральные и умеренные высказывания Герцена выносятся автором на первый план как парадигматические и логичные для его интеллектуального становления. Отдельные же цитаты или целые периоды жизни Герцена, которые отнюдь не характеризуют Герцена как осмотрительного либерала и сторонника разума и науки, чаще всего представляются аномалиями и временными ошибками. Относящиеся к разным периодам скептические замечания по поводу права и либерально-демократических институтов, увлеченность революцией 1848 г., так же как и участие Герцена в революционном движении в начале 1860-х гг., Келли объясняет эмоциями или кратковременными рецидивами идеалистических увлечений юности. Все это лишь временные искушения, из борьбы с которыми Герцен неизменно выходил победителем.
Также представляется, что, говоря о последовательном либерализме позднего Герцена, автор несколько преуменьшает его национализм и степень его разочарования в революционном движении. Даже во второй половине 1860-х гг. Герцен оставался близок к русскому национализму; как видно из писем, он с нескрываемым подозрением относился к Западу и его критике России[8].
Отношения Герцена с русскими революционерами, возможно, также были несколько сложнее, чем это представлено в книге. Герцен продолжал переписываться с представителями «молодой эмиграции» и сохранил деловые связи с некоторыми из них. Несмотря на определенное разочарование, до конца жизни он использовал принятую в революционной среде риторику и хвалил «молодых штурманов будущей бури»[9]. Его работы, обращенные к радикальной молодежи, настолько двусмысленны по содержанию, что, хотя они прочитываются Келли как гневные отповеди, они также могут быть интерпретированы как дружеские советы и выражение поддержки[10]. Даже адресованные Бакунину письма («К старому товарищу»), которым Келли уделяет особое внимание, заканчиваются реверансом в сторону революционной традиции и якобинства и весьма прозрачным намеком на то, что в определенных условиях насилие может быть оправдано[11].
«Человек посередине» — одна из постоянных характеристик Герцена, к которой Келли многократно возвращается на протяжении книги. Она полагает, что для Герцена было характерно стремление к «золотой середине», избегание крайностей. По версии исследовательницы, Герцен стремился соединить естественно-научный взгляд на мир и моральную автономию личности, найти средний путь между доктринами западников и славянофилов. Под влиянием Бэкона он надеялся соединить рационализм и эмпиризм, в духе шиллеровских «Писем об эстетическом воспитании человека» он думал о примирении разума и чувственного начала. Вслед за Прудоном он искал теорию, способную соединить свободу и коллективизм в политике и экономике, критикуя одновременно республиканцев, монархистов, коммунистические и либеральные доктрины laissez-faire.
Однако в некоторых случаях, как показывает Келли, Герцен не искал компромисса, а решительно принимал одну из сторон. Он явно предпочитал естественные науки «туманному идеализму» (с. 87), реализм — эскапизму, науку — религии. В этих случаях Герцен оказывается непримиримым борцом, действующим в логике «или — или», иконоборцем и ниспровергателем устоев. Например, автор показывает, что отношение Герцена к религии в зрелые годы было лишено полутонов. Такими же абсолютными оказываются различия между «идеализмом» Бакунина и «реализмом» Герцена, между взглядами Герцена и Чичерина, между польским национальным движением, которое Герцен поддержал в 1863 г., и русским общественным мнением. В некоторых случаях эти противопоставления убедительны, но иногда кажутся чрезмерным упрощением. Это относится, например, к дихотомии «натурфилософия — эмпирическая наука»: нельзя не отметить, что между той и другой существовало множество связей как на интеллектуальном, так и на институциональном уровне. Положение усугублялось тем, что демаркация между разными видами знания в эпоху Герцена была еще далека от завершения. Возможно, в некоторых случаях мог бы оказаться продуктивным анализ смешения, взаимовлияния, медиации противоположностей. Так, представляется, что относительно эмпирической науки и натурфилософии Герцен был таким же «человеком посередине», как и относительно, например, спора западников и славянофилов.
Вообще влияние натурфилософии на университетских учителей Герцена и на него самого было довольно заметным. Вслед за советским исследователем С.Р. Микулинским Келли представляет М.А. Максимовича сторонником строгого эмпирического подхода и критиком натурфилософии, однако показательно, что единственная ссылка Герцена на Максимовича связана с доказательством последним существования «неорганической жизни» в минералах. Эта идея, в свою очередь, была, возможно, заимствована у сторонника натурфилософии Л. Окена[12].
Келли пишет, что наука оставляет последнее слово за эмпирическими исследованиями, а не за авторитетами и знаниями, полученными из вторых рук. Но все же Герцен сам был, скорее, более или менее квалифицированным читателем научных трудов, чем ученым. О научных результатах он знал намного больше, чем о методах науки и социальном контексте ее существования. Развитие лабораторных и полевых исследований, изменение стандартов доказательства и объективности прошли мимо Герцена; по-видимому, он не уделял всему этому большого внимания и потому едва ли мог критически оценить.
Следует также отметить присутствие в книге Келли ряда небольших фактических неточностей, что, вероятно, неизбежно в работах столь большого масштаба. Ни одно из них не влияет на аргументацию, но тем не менее некоторые весьма примечательны. Например, в работе говорится, что Герцен бывал в Сибири (с. 242); это напоминает историю середины XIX в., когда английские издатели части «Былого и дум» («Тюрьмы и ссылки») озаглавили свой перевод «Моя ссылка в Сибирь». Это сразу повышало статус Герцена как революционера, но не соответствовало действительности: он никогда не бывал восточнее Перми. В то время это вызвало небольшой скандал и потребовало от Герцена объяснений в печати[13].
Некоторые ошибки связаны с географией и хронологией[14], встречаются опечатки[15], небольшие неточности касаются реалий России XIX в. и истории революционного движения[16]. Но, несмотря на все это, автору нельзя отказать во внимании к деталям. Выигрышно смотрится книга и на макроуровне: в ней предлагаются оригинальные и неожиданные интерпретации ряда идей и споров; некоторые из них традиционны, другие, например дебаты о натурализме и свободе воли, приобрели актуальность только в относительно недавнее время.
Хотя, возможно, не все положения и выводы автора звучат одинаково убедительно, «Открытие случайности» — это качественное исследование, которого давно не хватало в герценоведении, переживающем недостаток хороших обобщающих работ. Книга служит усложнению историографического ландшафта; представляется, что с ее выходом любой анализ герценовской мысли, претендующий на полноту, становится невозможным без специального внимания к ее научной стороне. Также есть вероятность, что книга поможет привлечь дополнительное внимание к пересечениям истории науки и других областей интеллектуальной истории XIX в. Многие идеи о Герцене и его времени уже давно не подвергались рефлексии и от частого повторения приобрели привкус очевидности. Если книга Келли и не опровергает их, то, как минимум, заставляет еще раз о них задуматься[17].
[1] См.: Kelly A. Toward Another Shore: Russian Thinkers Between Necessity and Chance. New Haven; L., 1998.
[2] См.: Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность / Пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хестанова. М., 1996; Kelly A. Herzen and Proudhon: Two Radical Ironists // Kelly A. Views from the Other Shore: Essays on Herzen, Chekhov, and Bakhtin. New Haven; L., 1999. P. 82—113. В рецензируемую книгу вошла переработанная версия этой статьи.
[3] См., например: Плампер Я. История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона. М., 2018. C. 96—100, 360—362.
[4] В частности, она приводит примеры В.В. Зеньковского и Е.И. Ламперта.
[5] См.: Келли А. Был ли Герцен либералом? / Пер. с англ. С. Силаковой и Е. Канищевой // НЛО. 2002. № 58. С. 87—99.
[6] Малиа М. Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812—1855 / Пер. с англ. А.В. Павлова, Д.А. Узланера. М., 2010. Келли отдельно останавливается на двух тезисах Малиа: о шеллингианстве Герцена-студента и о предрассудках Герцена по поводу Запада, в котором он якобы разочаровался еще до революций 1848—1849 гг. Келли доказывает, что к выводу о кризисе западной цивилизации он пришел только в годы революций — на основе личного опыта и рациональной оценки происходивших событий. Впрочем, в некоторых случаях Келли следует за Малиа, принимая его скептические и ироничные трактовки. Прежде всего это касается личной жизни Герцена.
[7] Келли довольно кратко говорит о семейной драме, разыгравшейся между Герценами и Гервегами, причем (в отличие от большинства русских биографов) она в целом согласна с позицией Э. Карра, который показывал Герцена не в лучшем свете.
[8] См., например, о «намерении бросить перчатку <…> Западу»: Герцен А.И. Письмо Н.П. Огареву 11 сентября 1867 г. // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. 1. М., 1963. С. 197.
[9] Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 11. М., 1957. С. 341.
[10] См., например: Герцен А.И. Журналисты и террористы // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 16. М., 1959. С. 225.
[11] См.: Герцен А.И. К старому товарищу // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 20. Кн. 2. М., 1960. С. 592—593.
[12] См.: Герцен А.И. О месте человека в природе // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. М., 1954. С. 14. Герцен цитирует следующую статью учителя: Максимович М.А. О степенях жизни в земном мире // Размышления о природе. Киев, 1847. С. 41—42. (В комментарии к сочинениям Герцена ошибочно указана другая статья Максимовича.)
[13] См.: Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 12. М., 1957. С. 545—546. Также в книге Келли присутствует другая связанная с географией неточность. На с. 251 сказано, что Черная Грязь — это пункт на границе Российской империи; на самом же деле это подмосковное село.
[14] Ошибки закрались в даты царствования Екатерины II (с. 38) и ареста Н.Г. Чернышевского (с. 474).
[15] Например, А.С. Хомяков дважды назван Петром Хомяковым (с. 187, 589); на с. 548 вместо 21-го тома собрания сочинений Герцена указан 1-й.
[16] В книге сказано, что цензурный устав 1826 г. просуществовал до 1855 г. (с. 50), на самом деле он был заменен новым уже в 1828 г. На с. 436 сказано, что Кавелин имел «ранг сенатора», но в тот период не существовало никаких формальных требований для назначения в сенат, поэтому не могло быть и «ранга сенатора»; в любом случае Кавелин как профессор был статским советником, а чиновники пятого класса обычно в сенат не назначались. На с. 490 В.А. Обручев назван автором прокламации «Великорусс», но он был только распространителем листовки, а ее авторство осталось неустановленным (см.: Лемке М.К. Очерки освободительного движения 1860-х гг. СПб., 1908. С. 381).
[17] Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
