Олег Воскобойников
Что не сделали Барберини, сделал Муссолини
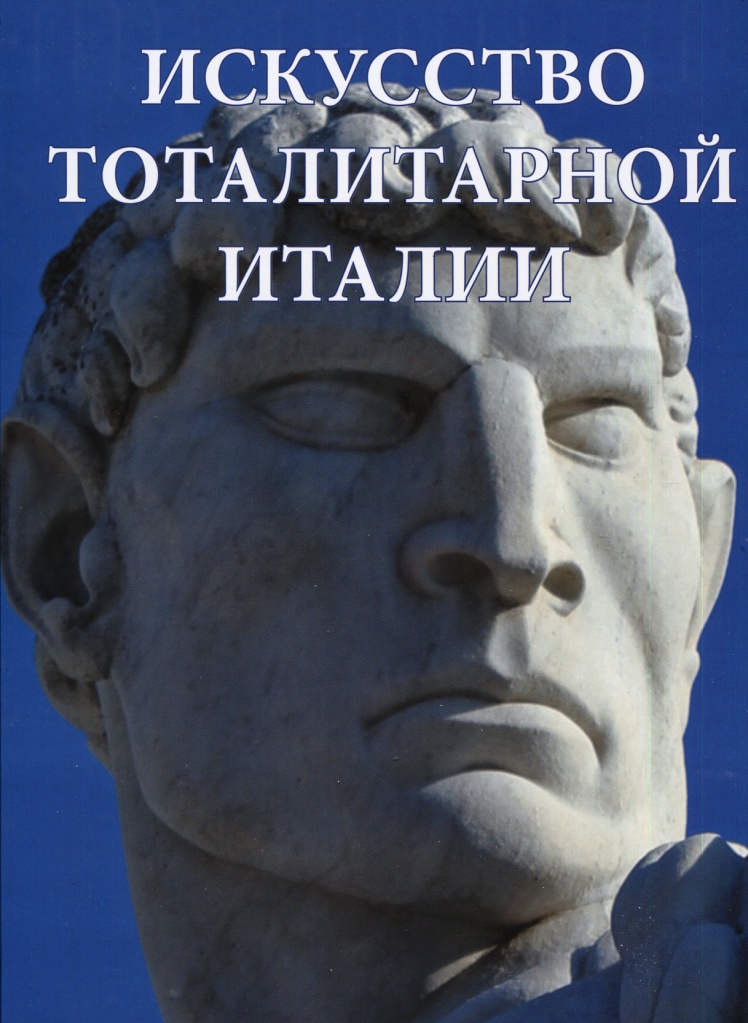
Вяземцева А. Искусство тоталитарной Италии.
М.: РИП-холдинг, 2018. — 464 с. — 1000 экз.
Несколько лет назад, когда автор этой книги защищала диссертацию по истории искусства в Академии художеств, кто-то из членов совета весьма почтенного возраста почти невинно спросил ее примерно следующее: есть ли в наследии фашистской Италии что-то художественно стоящее? Любому защищавшему какую-либо диссертацию нетрудно догадаться, что подобная формулировка ставит под сомнение саму возможность предмета исследования диссертанта. Тем не менее вопрос был задан вполне дружелюбно, диссертантка получила искомую степень и успешно работает в московском Институте истории и теории архитектуры и градостроительства. Перед нами же результат сочетания близкой по теме диссертации и нескольких лет работы в том же направлении, которое автор ведет in situ, живя в Риме. И это, если не ошибаюсь, первая на русском языке обобщающая книга об искусстве Италии первой половины ХХ столетия.
Вопрос, заданный тогда человеком, с тоталитаризмом знакомым не понаслышке, более чем понятен. Даже на самом обыденном уровне слова «искусство» и «тоталитаризм» нелегко согласовать. Если уж берешься изучать тоталитарный режим, то искусство будешь искать вне его, в «сопротивлении», в эмиграции внутренней или внешней. И даже если найдешь в художественной форме тоталитарных лет выражение власти, то велик соблазн применить формальный анализ (например, по Вёльфлину) для того, чтобы вскрыть анатомию этой власти. Разве не таковы, по-своему, «Культура Два» Владимира Паперного и работы Игоря Голомштока? Не лишенные ни ошибок, ни натяжек, их книги все же научили многих из нас смотреть на наследие тоталитаризма глазами искусствоведа. Тем не менее тому, кто изучает судьбу искусства в условиях всепроникающей власти, трудно не вынести приговор этой самой власти, не схватить ее за горло, и этот приговор, хочешь — не хочешь, ляжет тенью и на искусство[1]. ХХ век, как известно, особенно богат на такие приговоры и сведение счетов и с отцами, евшими кислый виноград, и с самими собой. Как верно заметил Кундера, «тоталитарные империи исчезли вместе с их кровавыми процессами, но дух процесса остался нам в наследство, он-то и правит бал». И привел довольно длинный список «осужденных»[2]. Многие, вроде Хайдеггера и Селина, Гамсуна и Паунда, более или менее реабилитированы. Но другие ждут своей очереди.
То, что у нас не было ни одной серьезной работы об искусстве эпохи Муссолини, объяснимо, конечно, и тем, что у нас на зубах оскомина и собственных скелетов в шкафу предостаточно. И в Рим мы едем обычно не ради района ЭУР, не ради Итальянского форума, а улицу Примирения, проложенную в 1930-х гг. в честь союза фашизма и Ватикана (1929), заметим в лучшем случае потому, что по ней идем в базилику Св. Петра. И уж тем более вряд ли мы остановимся перед неаполитанским почтамтом (Ваккаро, 1933—1936), Домом фашизма в Комо (Терраньи, 1932—1936) или на площади Победы в Брешии (Пьячентини, 1927—1932). Почтамтов и площадей Побед нам хватает и дома.
В самой Италии переоценка наследия тех лет дается нелегко. Если Маринетти, д’Аннунцио — «отцов-основателей» — и Пиранделло, члена партии и подписавшего все, что нужно, в нужный момент, пьедесталов не лишали, то искусству изобразительному, и в особенности монументальному — прямой проекции власти, — повезло меньше. Многим, каждому по-своему, пришлось платить по счетам. Когда в 1960 г. ушел Марчелло Пьячентини, символ муссолиниевского монументализма, Бруно Дзеви, властитель архитектурных дум послевоенных лет, написал о нем, что он умер уже в 1925-м[3]. Художник Марио Сирони, не менее талантливый служитель режима, реально реабилитированный лишь недавней столичной выставкой[4], впал в депрессию, усугубленную самоубийством дочери в 1948 г. Кто-то, как Акилле Фуни, спрятался в преподавании, кто-то попросту выкупил и уничтожил все созданное в 1930-е гг., Антонио Сантагата, реставрируя собственные фрески в пострадавшем от бомбежек Ликторском дворце в Бергамо, заменил чернорубашечников на девушек в цвету… Чтобы не уничтожать отдельные визуальные свидетельства только что побежденного и уже проклятого прошлого, многие памятники подвергли подобной ретуши. Обнаженному бронзовому «Гению фашизма» Гризелли, приветствующему зрителя легко узнаваемым жестом, надели на руки древнегреческие боксерские перчатки и приладили неизвестно что и зачем маскирующий фиговый листок. Многочисленные изображения дуче, естественно, уничтожили, лишь самые оригинальные сохранив в заказниках, а позже выставив в соответствующих музеях. Damnatio memoriae и связанное с ней иконоборчество исторически объяснимы, оно само — свершившийся факт, нуждающийся в констатации, а не в процессе. Важно, что за ним, проклиная прошлое, мы, историки или просто любители Италии, должны увидеть то, что действительно достойно и нашего взгляда, и нашей памяти.
Таким образом, книга призвана восполнить довольно серьезную историко-культурную лакуну в наших знаниях о великой стране. Как я уже сказал, на самом деле в поле зрения автора вся первая половина века и даже чуть больше. Первая глава посвящена авангардным направлениям до Первой мировой войны, включая футуризм. Такое пространное введение может показаться излишне подробным, но автор абсолютно права, что межвоенное двадцатилетие, il primo Dopoguerra, не понять без движения, развернутого отчасти предшествующим поколением, отчасти, собственно, активными художниками, писателями и политиками времен Муссолини. И уже в этой главе вырисовывается авторский стиль исследования и изложения. Это рассказ о людях, событиях, обстоятельствах и памятниках, запечатлевших все указанные обстоятельства. Книга, по счастью, богато и очень качественно иллюстрирована, и подборка иллюстраций, как и положено в добротной искусствоведческой монографии, дело глубоко личное. Более того, наметанному глазу ясно, что труд по их собиранию едва ли не равен написанию текста. Но я не случайно сказал, что перед нами рассказ, потому что на нескольких десятках страниц нам представлена глубоко продуманная картина развития всего итальянского искусства рубежа веков. В Италии, и не только в те годы, очень много говорили и писали о синтезе всех искусств во имя прогресса — вспомним хотя бы пафос футуристов, выраженный в нескольких специальных манифестах по всем возможным поводам — от «похоти» и «войны» до живописи, скульптуры и архитектуры[5]. Следуя этим исканиям изучаемой эпохи, Анна Вяземцева тоже мыслит о зодчестве, говоря о живописи, о пластике, говоря об архитектуре. Авангард, как мне кажется, научил ее, во-первых, видеть искусство синтетически, во-вторых, прислушиваться к голосам современников и художников.
Мало какая эпоха в истории искусства так богата саморефлексией, запечатлевавшейся в публичном слове. Риторика этого слова зачастую не менее «кричащая», чем само искусство, и не менее революционна, чем сами революции. Понимая это, автор часто приводит цитаты, причем если голос футуристов худо-бедно знаком, то многие программные тексты 1920—1940-х гг. автор переводит сама. Количество приводимых в этой книге письменных свидетельств самого разного характера вполне сопоставимо с числом упоминаемых и анализируемых памятников, и это безусловное ее достоинство. Иногда это довольно пространные цитаты из программных выступлений архитекторов и художников, иногда высказывания политиков. Возьмем один характерный пример. Муссолини говорил, что «фашизм — это стеклянный дом, в который всякий может войти» (с. 402). Мы можем отнестись к этой популистской фразе примерно так же, как к тому, что «коммунизм — это молодость мира» (выражение примерно тех же лет). Мы понимаем, что образность в устах диктатора, пусть и не совсем лишенного литературного дарования, не может быть «ключом» к пониманию языка искусства его времени. Однако, если присмотреться к фасадам Дома фашизма в Комо, к фасадам столичных и провинциальных почтамтов, понимаешь, что архитекторы к этой фразе относились несколько иначе. Например, Джузеппе Ваккаро спроектировал в 1928 г. монументальный неаполитанский почтамт, фасад которого отсылал одновременно и к римскому замку Святого Ангела, и к местному Кастель Нуово с массивным пластическим порталом и облицованным квадром цокольным этажом. Через пять лет портал превратился в легкую стеклянную конструкцию модернистского толка, исчезла облицовка цокольного этажа (с. 399). Огромное окно в центре словно приглашает войти и отправить письмо на другой конец Империи. Таким образом, даже если муссолиниевская постройка, как и постройка любой эпохи, не является в строгом смысле иллюстрацией конкретных идей или доктрин, иносказательно она вполне в состоянии их воплощать. Художественные достоинства других почтамтов, естественно, могли быть спорными, но тип был узнаваемым всегда, потому что в корпоративном государстве, создававшемся в 1920—1930-х гг., идея единения была исключительно важной. И почтамты должны были являть ее каждый день и каждому итальянцу.
Целая глава названа цитатой из дуче: «Земля освобождается, строятся города». Это одна из громких фраз, из которых была построена речь 1933 г. о сути «корпоративного государства». Но кое-что за ней стоит: пострадавшая, как и все, в Первой мировой войне Италия вышла на лидирующие позиции по строительству. Фразу «Si redime la terra, si fondano le città» можно передать и несколько иначе, если уйти от сбивающего с толку пассива, в речи Муссолини звучащего не так, как по-русски: «Мы освобождаем землю, мы основываем города». Ясно, что он имеет в виду режим и себя самого, наследника императоров, основывавших города на всех завоеванных землях. Фашизм действительно основывал города на осушенных болотах, высаживал вдоль дорог средиземноморские сосны не только для поддержки грунта, но и метафорически указывая на свою «римскость» и на роль империи (с 1937 г.) в Средиземноморье. Ни одна страна на Западе не могла тогда соперничать с Италией в темпах этой работы по освоению собственной страны. Города и городки могли развиваться, только следуя генеральному плану, применяя его с учетом местной географической и культурной специфики. Работа Анны Вяземцевой показывает на конкретном материале, что город — тоже в определенной мере произведение искусства, она дает нам, если выразиться словами одного ее итальянского коллеги, «теоретическую раму, сквозь которую смотреть на город»[6]. Поэтому всякую постройку она рассматривает всегда в ее городском контексте, как «факты городской среды»[7], а город, будь то вечно перестраиваемый Рим или новорожденное поселение вроде Сабауды (в честь правящей династии), показывает нам на плане тех лет. Среди интересующих ее архитекторов можно было бы выделить именно градостроителей, то есть тех, кто не просто встраивал свое здание в существующий городской или иной ландшафт, но мыслил намного шире, в масштабах тысяч людей и благоустройства их частной и общественной жизни.
Как в Советском Союзе тех лет за спинами Иофанов и Алабянов нетрудно различить усы Главного зодчего, так и за десятками итальянских имен на страницах книги видится профиль с мужественно выдвинутой вперед челюстью. За речами на конгрессах и в невероятно активной периодике слышится голос дуче, осмысленный и дополненный чувствительными современниками в категориях градостроительства и искусства. Очень непросты эти отношения между тоталитарной мыслью и вовсе не обезглавленной, как в других тоталитарных странах, интеллигенцией, не лишенной творческого начала «художественной волей» (да простит мне автор этот заезженный термин). Выспренняя, очень сложная для перевода риторика тех лет не только «риторика», не велеречивое пустословие в грубом, обыденном его понимании. За ней стоят и форма, и содержание конкретных произведений. То, что выглядит пустым звуком из нашего прекрасного далека, бывало предметом восхищения, источником вдохновения и великих ожиданий. Муссолини мечтал о сильной — и, следовательно, воинственной — нации, достойной славного римского прошлого. Поэтому какое-нибудь «virtù» в его риторике, конечно, не «добродетель» (с. 418), а «мужество», «сила», воплощающаяся и в спортивных успехах, и в крестьянском труде. Она же, но уже на языке пластики, вклинивается грубо и зримо в городское пространство в колоссальных статуях комплексов Форума Муссолини (ныне Италийского) и Выставки «Е42», последней великой стройки (с. 368—369, 427—444). Раскопки римских древностей шли так же активно и профессионально, как и перелицовка городской среды в самом сердце Римской империи — достаточно вспомнить не утихающие по сей день споры вокруг проложенной при личном участии вождя улицы Империи, сегодня — улицы Римских форумов, торжественно открытой к десятилетию фашистской революции в 1932 г. Она со всей муссолиниевской «прямотой» просто рассекла надвое комплекс форумов, примерно так же, как улица Примирения стерла с лица земли средневековую и ренессансную застройку перед берниниевской колоннадой площади Св. Петра. С одной стороны, архитекторы и художники, следуя политической идеологии, возрождали традицию, с другой, — они ее изобретали, постепенно превращая столицу в «археологический мегаполис» (с. 178). Дух футуризма, мечтавшего, как известно, уничтожить музеи и прочий подобный «хлам», и очередное в истории Италии возвращение к собственному славному прошлому ради имперских амбиций, условно говоря, «неоклассицизм», «возврат к порядку», слившись вместе, дали ту невероятно сложную картину жизни искусства, которую представила Анна Вяземцева.
В целом эта картина убедительна, в ней невероятное множество деталей и красок, а информация, если судить по научному аппарату, берется из надежных источников, в том числе архивных, труднодоступных, из частных коллекций и небольших провинциальных музеев[8]. Если кратко, эта книга об Италии написана в Италии русским ученым, досконально Италию знающим. Это немало. Но есть в ней и ряд особенностей, вызывающих сомнения. Как я уже говорил, читатель найдет здесь не просто много имен — их сотни, в результате за ветвями и листьями леса не видно. Мы вряд ли упустим Пьячентини или Сирони, Де Кирико и Либера, но все же мне очень не хватило четко выписанных портретов двух десятков главных героев, какого-то семейного портрета в интерьере, даже если их имена вынесены в аннотацию на обложке. Имея собственное, в целом непрофессиональное, почти любительское, представление о памятниках и мастерах Италии первой половины ХХ в., я могу выстроить для себя силовые линии, как бы прибавляя к уже известному новые материалы. Но тому, у кого в голове нет заранее сложившегося списка, предложенная картина может показаться слишком сложной. Конечно, автор абсолютно права в том, что не вешает ярлыков и этикеток и воздерживается от оценок — в этой эмоциональной отстраненности от предмета залог профессионализма современного историка искусства, его отличие от экскурсовода. Но если в описании крупных проектов и комплексов нам ясно, на что прежде всего следует обратить внимание, то при «крупном плане» оно зачастую расфокусируется, в том числе потому, что автор считает своим долгом перечислить, например, едва ли не всех членов Высшего совета по древностям и изящным искусствам со всеми их заслугами (с. 378—379). Безымянная история искусства тоже бессмысленна, все эти сотни художников заслуживают памяти. Но тогда, если эта книга отчасти каталог, то ощутимо отсутствие серьезного указателя имен, географических названий и, возможно, памятников. И почему, скажем, критики и историки архитектуры Тафури и Дзеви, не спорю, вполне замечательные, удостоились эпитета «выдающиеся», а художники и архитекторы — нет?
Желание вернуть к жизни множество вполне достойных имен не могло не привести к калейдоскопу и к вынужденно кратким описаниям, в особенности в живописи. Из-за краткости описания и анализа конкретного произведения, как мне кажется, страдает и общая картина, потому что опять же за обилием ветвей теряется лес. Например, рассказ о новых монументальных ансамблях исторических городов автор начинает с разбора площади Победы в Брешии (с. 346), и риторика власти проступает даже в немногочисленных описанных деталях и, конечно, фотографиях тех лет и наших дней. Однако нам было бы полезно узнать, что украшавший площадь колосс, символизировавший «фашистскую эру», подражает и по форме и по функции микеланджеловскому «Давиду», что трибуна, с которой вещал дуче, подражает епископским и коммунальным кафедрам эпохи Возрождения (например, на углу собора в Прато, работы Донателло и Микеллоццо, 1428—1438 гг.), что изображенная на ней Ника (с. 351) отсылает к эллинистической бронзовой Нике из местного музея, а помещенные по бокам от нее легионеры и плененные варвары — к триумфальной иконографии эпохи первых императоров. Конечно, автор не скрывает этих источников вдохновения. Мы узнаем, например, что на ранний Ренессанс в какой-то момент ориентировался художник Джино Северини (с. 106), но чаще всего нам остается гадать, как именно мастера первой половины ХХ в. осмысляли наследие прошлого и что из этого вышло.
Мы видим, что направлений, выставок, исканий, тем, приемов — превеликое множество, но что именно это множество значит для большой истории искусства? Как оно соотносится с тем, что происходит в других странах? Отвечая на такие вопросы, Анна Вяземцева часто знакомит нас с мнениями современников, я уверен, что она на самом деле говорит их голосами — и это замечательный исследовательский прием[9]. Никто не отрицает выразительности цитаты, в том числе в рамках строго научного исследования. Но многие цитаты все же «провисают» или оказываются недостаточно выразительными из-за очевидных трудностей перевода и нехватки авторского комментария. Ясно, что вчитавшийся в текст автор способен фактически мыслить в категориях изучаемого и любимого ею времени, понимает его досконально. Кроме того, она ведь видит текст до и после выбранной для вставки цитаты. У нас этого преимущества нет, поэтому, когда последняя глава заканчивается отрывочными мыслями Витторио Чини, возглавлявшего работы по проекту Всемирной выставки «Е 42», это оставляет в недоумении (с. 444). По счастью, эпилог, естественно, меланхолический по звучанию, хотя и не упаднический, расставляет необходимые акценты и завершает картину. Гинзбург и Хёйзинга могли себе позволить цитировать фриуланский диалект 1600 г. или старофранцузский вовсе без перевода — это погружало читателя в гущу событий. Анна Вяземцева берет на себя труд переводить, повторяю, очень образную итальянскую речь первой половины прошлого века, стараясь не погрешить против того, что именно и как там сказано. Эта верность зачастую оборачивается насилием над русским языком, которое в свою очередь приводит к смысловой неясности, хотя чаще всего речь просто о неудаче с синонимикой, вроде «суровых схем» (с. 377), которые без потери верности можно было назвать «строгими», ведь «суровыми» бывают меры или законы, но не схемы. Тем не менее то, что в переводе зачастую звучит тяжеловесно, в оригинале по-своему изящно и вполне осмысленно.
Картину художественного развития великой страны в очень сложную эпоху невероятно трудно дать под одной обложкой. Для этого нужны не только огромные знания, смелость и талант, но и опыт. Тем более заслуживает уважения синтез, представленный совсем еще молодым исследователем. Хотя в основе его лежит диссертация, нам не найти в нем следов этого специфического жанра. Между тем, сбор и изучение необходимого материала, во-первых, трудоемкие, во-вторых, очень непростые в плане логистики, учитывая, что многие произведения и документы — в частных руках в десятках городов. Похвально и то, что историк искусства проявил не всегда встречающийся в ее цехе такт по отношению к истории изучаемой страны, к конкретным фактам и к тому, что принято называть «историческими закономерностями» или «временем большой длительности». Диктатора, оставившего на лице великого древнего города хорошо заметный след тоталитаризма, нетрудно поставить в один ряд с варварами, лишившими Рим мрамора и бронзы, с Барберини, разобравшими Колизей на дворцы. Но Анна Вяземцева не выносит приговоров, ни обвинительных, ни оправдательных. Повторю, это история людей, а не только предметов. Наконец, не углубляясь в компаративистику, чреватую размыванием сюжета, автор все же посчитала своим долгом периодически обращаться к событиям, параллельно происходившим в других странах (от СССР до США), она понимает, что говорить об итальянской версии архитектурного рационализма без оглядки на Ле Корбюзье бессмысленно (с. 194—195). Одним словом, автора следует поздравить с несомненным успехом, а нас — с отличной находкой.
[1] Хобсбаум Э. Разломанное время. Культура и общество в двадцатом веке. М., 2017. С. 279—291; Берлин И. История свободы. Россия. М., 2014. С. 402—421.
[2] Kundera M. Les testaments trahis. P., 1993. P. 269—273.
[3] Такая посмертная издевка может показаться местью еврея, бежавшего от расовых законов и вернувшегося только при республике. Однако Дзеви был серьезным историком и теоретиком архитектуры и градостроительства, в том числе современных. Он посвятил, например, монографию работавшему при фашизме Джузеппе Терраньи: Zevi M. Giuseppe Terragni. Bologna, 1980.
[4] Mario Sironi. 1885—1961 / A cura di E. Pontiggia. Milano, 2014.
[5] В не всегда удачных и лишенных каких-либо комментариев старых переводах М. Энгельгардта с ними можно познакомиться в недавнем издании: Маринетти Ф.Т. Футуризм. Тамбов, 2017. См. также: Манифесты итальянского футуризма / Пер. В. Шершеневича. М., 1914. Тексты эти настолько сложны и выразительны, что нуждаются в новом, комментированном издании.
[6] Rossi M. La città come opera d’arte. Torino, 2008. P. 67. Ср.: Zevi B. Saper vedere la città. Ferrara di Biagio Rossetti, «la prima città moderna europea». Torino, 2006. P. 94—95 (1-е изд. — 1960).
[7] Русский перевод выразительного термина Альдо Росси fatti urbani, где первое слово вовсе не только «факты». Rossi A. L’architettura della città. Torino, 1995. P. 9—21. Выпущенный «Стрелкой» перевод не вдохновляет, но вполне доступен и авторизованный добротный английский перевод.
[8] Аппарат кое-где уходит от единства оформления, но в целом вполне прозрачен и информативен.
[9] Он, кстати, нередко используется в известных гуманитарных исследованиях, например в таких знаменитых, как «Сыр и черви» Карло Гинзбурга или «Осень Средневековья» Йохана Хёйзинги.
