М. Баскина
Жан-Поль после Целана, или Новая глава в истории буквального перевода
Жан-Поль. Грубиянские годы: биография / Пер. с нем. Т. Баскаковой: В 2 т.
М.: Отто Райхль, 2017. — 446 с. — 100 экз.
Отклик на вышедший в 2017 г. русский перевод романа Жан-Поля «Грубиянские годы» можно начать так же, как В.Г. Адмони начал свою вступительную статью к русскому переводу романа «Зибенкэз» в 1937 г.: «Уже около 40 лет на русском языке не появлялось произведений Жан-Поля» [1]. Последний раз крупное произведение Жан-Поля — трактат «Приготовительная школа эстетики», переведенный и откомментированный Ал.В. Михайловым, — вышло по-русски как раз 40 лет назад, в 1981 г., романы же, после «Зибенкэза» (1937), не переводились вовсе. Уже это придает настоящему переводу невидимого немецкого гения Жан-Поля (Иоганна Пауля Фридриха Рихтера, 1763—1825) особенное культурное значение.
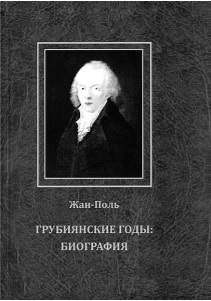
Впрочем, переводчица Татьяна Баскакова поясняет в интервью, что перевела этот огромный, в двух томах, роман прежде всего ради того, чтобы уяснить следующее: «…почему его так высоко ценили самые значимые для меня немецкоязычные поэты и писатели XX века — Пауль Целан, Арно Шмидт (Райнхард Йиргль — тоже, но это я поняла позднее, уже переведя роман Жан-Поля) и, главное, Ханс Хенни Янн, работа над трилогией которого и побудила меня — наконец — внимательно прочитать “Грубиянские годы”» [2]. Если рассматривать эту работу как подвиг личного, для себя, освоения — трудоемким долгим путем перевода — творчества писателя, повлиявшего на немецких авторов ХХ в., которых Татьяна Баскакова прежде всего переводит, то никакой рецензии, критики, оценки перевод «Грубиянских годов» не предполагает. В сущности, он не предполагает и читателей — и это объясняет поразительно маленький тираж: 100 экземпляров. Делу «пропаганды немецкой литературы», о котором как о своей задаче объявляет московское представительство немецкого издательства «Отто Райхль», выпустившее роман, он призван способствовать не в настоящем, не для современного отечественного читателя, а для «культуры» в ее метафизическом смысле; его истинный адресат — не читатель, а, также в метафизическом смысле, оригинальный текст романа или, еще точнее, Целан или Янн.
Однако на самом деле перевод, как скоро он выходит в свет, не может быть только апострофой. Если бы перевод «Грубиянских годов» в самом деле был лишь домашней подготовительной работой переводчицы Целана, то ему следовало бы остаться в ее письменном столе и, во всяком случае, не выходить за пределы обсуждения на переводческих семинарах. Перевод увидел свет и этим открыт для чтения, в том числе критического.
Перевод Т. Баскаковой принадлежит к современной тенденции в переводе, где «буквализм» понимается как безусловно наилучший метод. Переводческие принципы, к сожалению, никак не разъяснены в послесловии переводчицы, зато им посвящено ее эссе 2004 г., в котором в качестве образцового для себя Т. Баскакова назвала перевод «Бытия и времени» В.В. Бибихиным, где тот «ни на йоту не отступал от оригинального текста Хайдеггера, мало заботясь о том, насколько трудно придется русскоязычному читателю. Зато, читая его перевод, можно быть уверенным, что ты знакомишься с идеями именно Хайдеггера, а не более или менее добросовестного интерпретатора» [3]. Круг вопросов, которые обсуждаются в этом эссе, посвященном работе семинара русско-немецких переводчиков, в общем находится в рамках традиционного понимания буквального перевода как по преимуществу герменевтической процедуры, направленной на переводимый текст, предполагающей особое внимание к отклонениям авторского текста от литературной — и просто речевой — нормы, а также необходимость комментария в случае перевода произведений, в которых значительную роль играют интертекстуальные отсылки. Позиция современного переводчика-«буквалиста» отличается эксплицитной, усиленной рефлексией по поводу своего переводческого «я», «self-referentiality»: отмечая аграмматизмы оригинального текста, переводчик должен «как-то логически объяснить — прежде всего, самому себе — эти отклонения», комментарий «должен быть, но не “научный”; он должен выражать то, что знает и хочет сказать переводчик»; переводчик — «стекло», но «не чистое (не бесстрастное)» [4]. Cтарые мастера-буквалисты, от Фосса до Б.И. Ярхо, тоже на самом деле были предельно субъективны и выступали в родной им культуре большими оригиналами — они лишь по старой традиции избегали слишком часто говорить «я». В наши дни, после работ Лоренса Венути [5], стало общим местом понимание того, что конвенция (впрочем, вообще условная) «невидимости», прозрачности переводчика существует только при доместицирующем подходе, когда переводной текст адаптируется к нормам принимающего языка и культуры, чтобы производить впечатление знакомого, как будто написанного на языке перевода. В случае форенизирующего подхода, в частности буквального, предполагающего «иностранность» звучания перевода и выбирающего прежде всего именно тексты, предельно далекие от канонов принимающей культуры, способные их взорвать и обновить, фигура переводчика становится активной, ясно видимой.
Жан-Поль — образцово непереводимый автор, прямо-таки «требующий» буквального перевода. Еще в помещенной в качестве предисловия к антологии переводов из Жан-Поля 1844 г. статье Филарета Шаля, не только известного французского критика, но и автора почти буквального перевода жан-полевского «Титана» на французский (для которого, как считается, едва набралась дюжина читателей), говорилось:
…никогда не видали еще подобного слога. Это хаос вводных предложений, подразумеваний; карнавал мыслей и языка; заселение новых слов, приходящих, по прихоти автора, требовать права гражданства в речи; периоды на трех страницах, без знаков соединения, состоящие изо ста фраз; вводные предложения порождают другие и так далее; подобия на подобиях, заимствованные у искусств, у ремесел, у самой глубокой учености. И в этом лабиринте нет ариадниной нити, чтоб показать вам дорогу; <…> все это удивительным образом переплетено, убрано цитатами, междометиями, восклицаниями, каламбурами, эпиграммами, усеяно неожиданными порывами, трогательными сценами, белыми листками, отступлениями, которым посвящаются иногда целые томы, эпизодами, между которыми заблуждается главный предмет. Прежде нежели переводить Жан-Поля, нужно понять его; какого неизмеримого труда это стоит! Разверните роман Жан-Поля: вы увидите, сколько скрывается чувствительности, нежности, грации, глубокомыслия в его отважных арабесках. Вы узнаете в шумном фарсе его произведений чувство гуманистическое, искреннюю любовь к людям, мощное сочувствие, умиляющую поэзию. Среди густого тумана, облекающего все его произведения, в недре неясных порывов, среди оглушающего смеха, вы найдете следы невыразимого вкуса и изумитесь, будто увидев очаровательную фею в пещере циклопа, закопченной дымом. Тогда вы, может быть, разгадаете писателя столь необъятного, столь мало читаемого, этого гения, совершенно германского, покрытого для других наций тройным покрывалом, — единственного оригинального писателя, столь оригинального, что он не нашел себе ни подражателя в своем отечестве, ни переводчика у других народов [6].
За прошедшие 200 лет эта оценка если и устарела, то только стилистически — тем интереснее предпринятая Татьяной Баскаковой попытка в наше время перевести непереводимого Жан-Поля на русский язык.
Перевод «Грубиянских годов» читается трудно — так, конечно, и должно быть в случае буквального перевода автора столь своеобразного и своеобразно немецкого. Вопрос в качестве, оправданности этой затрудненности. К сожалению, эссе переводчицы «Прикончить зайца…», завершающее второй том книги, не только не объясняет метод перевода, но и не говорит о том, как она понимает стиль Жан-Поля и возможности его адекватной передачи средствами русского языка. Но поскольку буквальный перевод предполагает «культурного читателя», который способен ценить затрудненность чтения и видеть за непривычными русскими фразами словесные конструкции оригинала — а в идеальном случае это тот, кто читает перевод параллельно с оригиналом, поскольку знает данный иностранный язык, но недостаточно хорошо, чтобы в полной мере понять сложный текст без подспорья подстрочника, — мы попробуем выступить в роли такого читателя и, чтобы оценить характер затрудненности для восприятия русского текста, сравним с оригиналом наугад выбранный фрагмент — начало 52-го «нумера» четвертой книжечки.
По-русски эта главка имеет заглавие «Чучело мухолова-тонконоса» [7], громоздкость которого сразу останавливает внимание и заставляет предполагать тут особый смысл, которого, как кажется, нет — в оригинале: «Ausgestopfter Fliegenschnapper», то есть просто «Чучело мухоловки» (во избежание путаницы с одноименными насекомым и инструментом можно, хотя и не обязательно, уточнить «птицы мухоловки»). Жан-Поль действительно использует необычно много ученой естественно-научной лексики, точной передаче которой Татьяна Баскакова уделяет особое внимание, тем более, что многие из этих специальных слов имеют в его тексте второй, литературный, план. Однако в данном случае переводческий выбор непонятен и не пояснен в комментарии.
Другой пример из того же «нумера»: немецкий язык поверхностного франкофона Флитте полон французских вкраплений, вполне обиходных: «Я сниму для нас две превосходно меблированные комнаты у cafetier Фресса; pardieu, мы ведь хотим жить comme il faut» (2, 457). В оригинале нет уродливой грамматической макароничности «cafetier Фресса» — там оба слова выделены как французские: «cafetier Fraisse», и так этот персонаж и именуется на протяжении главы — тогда как в переводе дальше также довольно громоздкое «владелец кофейни Фресс» [8].
В конце главки появляется «доктор Шляппке» (т. 2, с. 478) — в оригинале «D. Huts». Вообще в переводе «Грубиянских годов» фамилии, названия и заглавия чаще приводятся в транскрипции их немецкого звучания, а предположения об этимологии и значении делаются в комментарии: «Ван дер Кабель» — «в германских языках <…> имеет <…> устаревшее значение “жребий”» (т. 2, с. 637); «Фамилия братьев, Харниш (Harnish), означает “рыцарский доспех”, и в романе содержится много аллюзий на “Дон Кихота”» (т. 2, с. 796) и проч. Установка на фонетическую транскрипцию имен иногда проводится ценой смысловых утрат: так, имена главных героев романа братьев-близнецов: Вальт и Вульт — передают немецкое звучание, но не значимое различие в их написании: Walt/Vult (т.е. в переводе может быть лучше было бы: Вальт/Фульт). Встречается, однако, несколько имен и названий, которые подвергнуты в переводе русификации: вымышленное княжество «Волосочёсинг» (т. 1, с. 69; ср. коммент.: т. 2, с. 651; в оригинале: «Haarhaar»); некий «Зрюстриц», настоящая фамилия которого «Зрястриц» (т. 1, с. 434) — в комментарии поясняется, что в подлиннике тут заурядная немецкая фамилия Shuster, означающая «сапожник», переделанная для большей оригинальности в Sehuster — как поясняет переводчица, «искаженное “зрящая устрица”» (т. 2, с. 713). Не беремся судить, насколько безусловна для немецкого уха эта интерпретация, «зрящая устрица», решительным образом определившая выбор русифицированного имени, но, во всяком случае, выдуманная переводчицей немецкая фамилия «Зрястриц» отнюдь не производит на русского читателя впечатления заурядной (хотя и делается попытка компенсировать эту утрату этимологически: «Зрястриц» — тогда уж лучше «Заурястриц»?). Это, конечно, не полная культурная русификация, в духе знаменитых «Горемычного Яши» Иринарха Введенского или «Степки-растрепки», в которого превратился немецкий «Struwwelpeter» — у Т. Баскаковой Зрястриц и Волосочёсинг сохраняют отчетливую немецкость звучания, однако при этом содержат слишком явный элемент этимологической русификации. Смешение форенизирующего и доместицирующего подходов в переводе имен и названий нуждается в объяснении, тем более, что проводимый в этом переводе сознательный выбор буквальности в передаче смысла сопряжен с преодолением переводческих соблазнов и некоторыми утратами. Так, многократно упоминаемое в тексте заглавие романа, который пишут братья, «Hoppelpoppel», переведено буквально: «Яичный пунш» — ценой полной утраты его забавного немецкого звучания, в значительной степени, конечно, мотивировавшего выбор братьев, — тогда как тут так и просится перевод «Гоголь-моголь» (или даже «Хопель-попель», с пояснением значения немецкого слова в комментарии).
Иногда затрудненность переводного текста оказывается вызвана стремлением переводчицы передать буквально смысл каждого слова в ущерб ритму и просто понятности и без того трудного текста. В частности, это происходит из-за постоянной замены коротких немецких слов и выражений непропорционально длинными русскими аналогами: «so zart» — «необыкновенно деликатным» (т. 2, с. 465), «sondern eile» — «но поспешай дальше» (т. 2, с. 466) и проч. Удлинение оригинального текста и «распаковка» одного немецкого слова в несколько русских неизбежны при переводе, однако когда синтаксически совершенно нормальная фраза «Die langen Fenster und Spiegel fullten das geglattete Zimmer mit Glanz» переводится как «Высокие окна и зеркала наполняли блеском комнату с гладкими стенами» (т. 2, с. 459), то буквальный, да еще вынесенный в сильную концевую позицию перевод «geglatten» — «с гладкими стенами» — приобретает немотивированный смысловой акцент. Также непонятно, почему вполне нормативный, обиходный повтор «worin noch mehr Gallizismen und noch mehr Schonheiten regierten» переводится искусственным и громоздким «там царили, в еще большем количестве, галлицизмы и царили, во множестве, красавицы» (т. 2, с. 465).
Все это усугубляет трудность стиля Жан-Поля с ущербом для его поэтического обаяния. Названные переводческие огрехи, из-за которых перевод Т. Баскаковой — вообще скрупулезно точный, ученый, явно сделанный опытным и изобретательным мастером — местами производит впечатление не до конца отделанного, могли быть сравнительно легко исправлены при совместной работе переводчика и редактора, тем более, что редактором перевода «Грубиянских годов» обозначен опытнейший филолог-германист и переводчик Александр Белобратов. Скрупулезная редакторская сверка перевода с оригиналом с презумпцией максимальной адекватности практиковалась в отечественной книгоиздательской традиции еще во «Всемирной литературе» — этот редакторский институт востребован сейчас, в эпоху нового расцвета буквализма.
Значимую часть перевода «Грубиянских годов» составляет переводческий паратекст — пространное, без малого в 150 страниц, эссе Татьяны Баскаковой «Прикончить зайца…» с подзаголовком «О поэтическом космосе Жан-Поля» (т. 2, с. 786—924). Оно представляет собой «close reading» романа, а также «Приготовительной школы эстетики» (1804) как комментария к нему. Имеются отдельные отсылки к другим произведениям Жан-Поля, мотивированные в этом имманентном чтении тем, что все творчество немецкого автора рассматривается как единый «космос», связанный аналогичными сюжетами, образами, мотивами, которые Т. Баскакова интерпретирует прежде всего как аллегории (часто через обращение к этимологии немецких слов), преимущественно метапоэтические. Хотя сам ЖанПоль по традиции своего времени относился к аллегории пренебрежительно [9] и хотя Т. Баскакова понимает аллегорию также скорее традиционно, статично (и, как свойственно для такого рода понимания, в финале эссе говорит о метафорическом мышлении как превосходящем аллегорическое (т. 2, с. 929)) — тогда как более интеллектуально острым и плодотворным для чтения Жан-Поля представляется «реабилитированное» понимание этого тропа, произведенное Вальтером Беньямином в «Происхождении немецкой барочной драмы», — аллегория является одним из доминирующих художественных механизмов в барочном художественном мире Жан-Поля, где натурфилософские, эстетические, моральные, мистические идеи постоянно «опрокидываются» в реальный — житейский, социальный, политический, даже тривиальный, филистерский мир (пожалуй, в эссе «Прикончить зайца...» немного не хватает анализа жан-полевского юмора как важного механизма его аллегоричности и центральной темы «Приготовительной школы эстетики»). В целом в своем понимании творчества Жан-Поля как единого аллегорического «космоса» Т. Баскакова повторяет сказанное еще В.Г. Адмони («Утрируя, можно было бы сказать, что жан-полевские романы больше связаны между собой, чем внутри себя» [10]) и Ал.Д. Михайловым, описывавшим художественный мир Жан-Поля как «всеобщее аллегорическое опосредование всех вещей (или значений)» [11]. Ценность эссе Т. Баскаковой в том, что в нем, с пространными цитатами, выявлены часто не очевидные сквозные аллегорические мотивы, так что переводческий паратекст в большой степени превращается в искусно составленную мозаику текстов Жан-Поля, тот самый монтаж цитат, о котором мечтал Беньямин как о самом доказательном способе изложения.
Единственный литературный контекст, помимо творчества самого Жан-Поля, о котором упоминает Т. Баскакова в последних строках своего послесловия и который, вероятно, для нее только и важен, — поэзия Пауля Целана (т. 2, с. 922— 923). Эссе «Прикончить зайца…» никак не соотносит Жан-Поля ни с немецким контекстом, с которым он связан в историко-литературном плане, ни с историей его русских переводов и рецепции. Это зияющее отсутствие кажется значимым, особенно в части русской истории. С одной стороны, переводчица демонстрирует разрыв с ней самим переводом заглавия «Flegeljahre» — «Грубиянские годы», тогда как по-русски принято «Озорные годы» [12] (вариант Т. Баскаковой стилистически точнее, заостреннее). С другой, вышедший по-русски перевод, уже независимо от интенции переводчицы, включается в историю русской рецепции писателя. «Грубиянские годы», как представляется, вполне принадлежат ее современному периоду, когда Жан-Поль актуализирован прежде всего не как романист, а как эстетик, философ, мистик, чья фундаментальная хаотичность, стилистическая неконвенциональность, неклассичность воспринимается как современная для ХХ в. Этот «новейший» период можно отсчитывать от русского перевода «Приготовительной школы эстетики» (1981), к нему же относятся переводы мистико-философских эссе Жан-Поля И.А. Болдыревым — переводчиком Батая, Хайдеггера, Э. Блоха, В. Беньямина [13]. Т. Баскакова, хотя обращается к переводу не мистико-философского или эстетического эссе, а романа, также принадлежит этой линии русской рецепции Жан-Поля, поскольку уделяет преимущественное внимание буквальной передаче синтаксиса и смысла отдельных слов, а не «поэзии», то есть читает роман как по преимуществу философско-эстетический текст, хотя и облеченный в причудливую художественную форму.
Однако «новейший» период русской рецепции Жан-Поля, в свою очередь, — только глава давно начавшейся истории. Первоначальный ее этап, 1820-е — начало 1840-х гг., был подробно рассмотрен М.Л. Тронской (Троцкой) в статье «Жан-Поль Рихтер в России» [14]. Статья Тронской вышла в том же, 1937 г., что и процитированная нами в начале статья Адмони [15], а также перевод А.Л. Кардашинским романа «Зибенкэз» (тираж 10 000 экз.) [16]. Такое разительное возобновление интереса к Жан-Полю в 1937 г. можно связать с двумя обстоятельствами. Во-первых, это создание (в 1935 г.) в Пушкинском Доме Западного отдела под руководством В.М. Жирмунского, целью которого было исследование литературных взаимодействий России и Запада. Одним из изданий отдела был «Западный сборник», где появилась статья Тронской. Второе обстоятельство, благодаря которому А.Л. Кардашинский, переводчик, несомненно, культурный, но малоизвестный, то есть не такой, которому позволялись бы эксперименты, не только сделал последовательно форенизирующий перевод романа «Зибенкэз», но и перевод этот был выпущен массовым тиражом, заключается в том, что к этому времени историко-филологически фундированный форенизирующий перевод в советской России стал общепринятой нормой благодаря блестящей деятельности переводчиков и редакторов «Всемирной литературы» и «Academia» (М.Л. Лозинского, А.А. Смирнова, Б.А. Кржевского, М.А. Кузмина, А.А. Франковского); теоретическому изучению проблем перевода и новаторскому практическому опыту перевода на русский язык «размером подлинника» античной поэзии и средневековой романской силлабики в Комиссии художественного перевода (1924—1930) ГАХН под руководством Б.И. Ярхо; широкому обсуждению начатой в середине 1930-х работы по подготовке новых собраний сочинений Гёте (ред. А.Г. Габричевский, С.В. Шервинский) и Шекспира (ред. А.А. Смирнов, Г.Г. Шпет), следовавших новому, более высокому, представлению о «точности» перевода. Конечно, к 1937 г. основные деятели художественно-филологического перевода, прежде всего из числа гахновцев, были репрессированы, а И.А. Кашкин начал свой пока не убийственный, но принципиальный поход против «буквалистов»-переводчиков Диккенса (тогда еще не столько Е.Л. Ланна, как после войны, сколько более крупного, Г.Г. Шпета). Однако выход «Зибенкэза» в переводе Кардашинского говорит о том, что набранная инерция и опыт точного перевода в 1937 г. еще продолжали действовать.
После войны как исследование русско-европейских литературных взаимосвязей, так и форенизирующий перевод были в советской России на долгие годы заморожены: Западный отдел Пушкинского Дома закрыли в 1950 г. в рамках кампании по «борьбе с космополитизмом» и научным влиянием школы А.Н. Веселовского; сторонники точного перевода были повержены. Несколько последующих десятилетий исторически реконструктивный эквиритмический «Гамлет» М.Л. Лозинского был вытеснен в восприятии читателей и в театральных постановках намеренно свободной вариацией Б.Л. Пастернака; переводы А.А. Франковским Марселя Пруста, передававшие «умную дикцию» оригинала, прививавшие русской культуре «галлицизмы умственных понятий», были изгнаны безжизненно книжными переводами Н.М. Любимова; массовый отечественный читатель судил о переводе по фельетонному «Высокому искусству» К.И. Чуковского; круг профессионально обсуждавшихся проблем перевода, в том числе в переводческих паратекстах, свелся в лучшем случае к прикладным лингвистическим (не говоря уже о примитивной социологичности основной массы выступлений), вне ключевой философской и широкой историко-филологической проблематики задачи переводчика. Все это не могло не сказаться на культуре отечественного перевода, в том числе на отсутствии у современного читателя навыка воспринимать буквальный форенизирующий перевод.
Однако нельзя сказать, что положение, в котором работали отечественные мастера «буквального» перевода 1920—1930-х гг., было лучше нынешнего. «Быстрыми и верными шагами приближаемся мы к тому времени, когда людей, получивших классическое образование, станут показывать на ярмарках, как ацтеков» [17], — иронически заметил Б.И. Ярхо в 1924 г. Трезвое понимание степени необразованности современного массового читателя привело Ярхо не к снобистскому элитизму, а, напротив, к представлению о важности элемента просветительства в задаче переводчика: «…заставить читателя воспринимать текст хотя бы приблизительно так, как воспринимает его наш современник, хорошо знакомый с латинским (речь идет о переводе «Сатирикона». — М.Б.) языком и литературой. При такой трактовке текст перевода должен производить впечатление чего-то иностранного, понятного, но нового и необычного, и, таким образом, выполнять единственное, по нашему мнению, художественное назначение всякого перевода: обогатить новыми формами литературу того языка, на который произведение переводится» [18]. В подходе Т. Баскаковой есть элемент профессионального переводческого элитизма и глубоко пессимистического отношения к читателю — в невнимательном отношении к тому, чтобы текст был «читабельным», в отказе объяснять свой переводческий подход, в ничтожном тираже, — что снижает способность ее перевода «образовать» этого читателя, сделать его способным воспринимать буквальный перевод и Целана, и Жан-Поля. Нужно все же иметь в виду, что русская рецепция Жан-Поля (как и отечественная традиция буквального перевода) не вовсе не существует: следы его влияния, как отмечала М.Л. Тронская, можно увидеть в писательской манере и литературных сюжетах Вельтмана, Одоевского, Федора Глинки; русский «Зибенкэз» (1937), хотя и появившийся в крайне неудачное время, может быть по меньшей мере типологически соотнесен со сделанными в те же годы А.А. Франковским и Г.Г. Шпетом (последние не опубликованы) переводами из стилистически близкого Жан-Полю английского автора, Стерна; наконец, к современному читателю Жан-Поль, во многом благодаря усилиям Татьяны Баскаковой, приходит через немецкую литературу ХХ в. Отечественный читатель уже располагает небольшим, но достаточно репрезентативным корпусом произведений Жан-Поля в переводах Бецкого, Бартеневой, Кардашинского, Михайлова, Болдырева. Перевод «Грубиянских годов», выполненный Татьяной Баскаковой, составляет одну из центральных глав этой истории. Все не так плохо!
[1] Адмони В.Г. Роман Жан-Поля // Рихтер И.П.Ф. Зибенкэз / Жан-Поль Фр. Рихтер; пер. А.Л. Кардашинского; ред., вступ. статья и коммент В.Г. Адмони. Л.: Гослитиздат, 1937. С. V.
[2] Ответ Т. Баскаковой на вопросы Евгении Белорусец на презентации перевода «Грубиянских годов» 6 ноября 2018 г. в Киеве (https://prostory.net.ua/ua/praktyka/409- grubiyanskie-gody-razgovor-o-neposlushnykh-pisatelyakh).
[3] Баскакова Т. «Стекла, посвящающие свою стеклянность…»: переводчики как читатели и посредники // Новое литературное обозрение. 2004. № 70. С. 295.
[4] Там же. С. 288, 292, 297. Курсив мой.
[5] См., прежде всего: Venuti Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. 2nd ed. Abingdon: Oxon; U.K.: Routledge, 2008.
[6] Шаль Ф. Опыт литературного характера Жан-Поля [1825] // Антология из Жан-Поля Рихтера / Пер. И.Е. Бецкого. СПб., 1844 (http://az.lib.ru/r/rihter_z/text_1825_ antologia-1-oldorfo.shtml).
[7] Жан-Поль. Указ. соч. Т. 2. С. 456. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы.
[8] Т. Баскакова находит, что французское имя владельца кофейни «по звучанию подозрительно напоминает немецкое fressen, “жрать”» (т. 2, с. 873), что, может быть, и верно, но, во всяком случае, никак не раскрывается для читателя в русском «Фресс». Кроме того, учитывая узкий достаточно просвещенный круг возможных читателей такого перевода, не стоило в комментарии — вообще полном полезных и интересных сведений — пояснять, что такое «cafetier», а тем более «comme il faut» (т. 2, с. 718).
[9] См.: Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики / Вступ. статья, сост., пер. с нем. и коммент. Ал.В. Михайлова. М., 1981. С. 201—203.
[10] Адмони В.Г. Жан-Поль Рихтер // Ранний буржуазный реализм. Л., 1936. С. 588.
[11] Михайлов Ал.В. «Приготовительная школа эстетики» Жан-Поля — теория и роман // Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. С. 30 и passim; см. также: Михайлов Ал.В. Обратный перевод. Русская и западно-европейская культура: проблемы взаимосвязей. М., 2000. С. 550—578.
[12] Так дается перевод заглавия романа в старой «Литературной энциклопедии» (М., 1935. Т. 9. Статья Е. Книпович) и в Краткой литературной энциклопедии 1960-х гг. (М., 1964. Т. 2. Статья В.Г. Адмони), в предисловии и комментарии Ал.В. Михайлова к «Приготовительной школе эстетики» и др.
[13] Жан-Поль. Сон о поле боя / Пер. И.А. Болдырева // Волшебная гора. 2006. № 12. С. 532—539; Он же. Письмо о философии / Пер. И.А. Болдырева // Историко-философский альманах. М., 2007. Вып. 2. С. 322—330.
[14] Западный сборник. Т. 1. М.; Л., 1937.
[15] См. также более специальную работу Адмони о Жан-Поле в сборнике под редакцией Н.Я. Берковского «Ранний буржуазный реализм» (1936).
[16] Выбор для перевода в 1937 г. именно романа «Зибенкэз» говорит о преемственности с предшествующей русской историей восприятия Жан-Поля, где к этому роману обращались чаще всего: «Зибенкэз» был подробно пересказан бароном Ф.Ф. Корфом (Современник. 1839. Т. 14. С. 15—76), включен в отрывках в получившую множество откликов, включая рецензию Белинского, антологию, изданную страстным поклонником Жан-Поля И.Е. Бецким в 1844 г.; наконец, в 1900 г. вышел отдельным изданием под заглавием «Цветы, плоды и шипы, или Брачная жизнь, смерть и свадьба адвоката бедных Зибенкейза» (перевод сначала публиковался по частям в «Новом журнале иностранной литературы, искусства и науки» (1899. № 5—11), а в 1900 г. был выпущен этим журналом отдельным изданием). Несмотря на то что в целом книга эта прошла незамеченной, небезынтересна фигура переводчицы, революционерки-социалистки Екатерины Григорьевны Бартеневой (1843—1914), которая в юности, во время пребывания в Женеве, была близка к Михаилу Бакунину, который, в свою очередь, в 1830-е гг. в германофильском московском кружке Станкевича увлекался Жан-Полем, — таким образом прослеживается еще одна линия преемственности в русской рецепции Жан-Поля. Из перевода Кардашинского 1937 г. изъяты (вероятно, цензурой) вставные главы, в том числе «Речь мертвого Христа с вершин мироздания о том, что Бога нет», которую привела во французском переводе мадам де Сталь в своей знаменитой книге «О Германии», откуда этот текст был усвоен русской литературой (см.: Михайлов Ал.В. Обратный перевод. С. 554—555). Имеется отдельный перевод этой главы на русский язык (Логос. 1994. № 6. Пер. К. Блохина).
[17] Ярхо Б.И. Предисловие // Петроний Арбитр. Сатирикон. Пер. *** [В.А. Амфитеатрова-Кадашева, К.А. Лигского] под редакцией Б.И. Ярхо. М.; Л., 1924. С. 12—13.
[18] Там же. Курсив Ярхо.
