Новые книги
Предсимволизм —
лики и отражения /
Под ред. Е.А. Тахо-Годи.
М.: ИМЛИ РАН, 2020. — 542 с. — 300 экз.
Тема, затронутая авторами книги, очень актуальна. Термин «предсимволизм», впервые появившийся в 1970-е гг. в трудах литературоведов, близких Тартуской школе, до сих пор не получил широкого распространения. Формирование символистского мировоззрения («миропонимания») — процесс, безусловно, сложный, но не только тонкости этого процесса, но и его общий абрис нам ясны пока еще не до конца. Тем важнее новый труд, выпущенный Институтом мировой литературы.

В сборнике объединены разнообразные подходы и точки зрения на изучаемую эпоху. Стержневая идея в нем отсутствует, ее заменяет калейдоскоп мнений. Для обсуждения предсимволизма это самая удачная форма, потому что даже термин «предсимволизм» не имеет общепризнанного значения, что хорошо заметно в первом, теоретическом разделе книги.
Он невелик — состоит из трех статей. Работа В.И. Мильдона «Предсимволизм как русский Проторенессанс» риторического свойства и построена на развитии метафоры Н.А. Бердяева, Ф.А. Степуна, В.Н. Ильина и некоторых других философов-эмигрантов: рубеж веков — это «русское Возрождение». Если Серебряный век именуется ренессансным, то предсимволизм, по мнению автора статьи, может быть назван проторенессансом. Трудно сказать, насколько это существенно для сегодняшнего осмысления истории литературы (истории культуры), поскольку философы эмиграции, думается, использовали метафору «Возрождение» не в сущностном плане, а, скорее, в полемическом ключе: большевистское варварство разрушило тонкую культуру. Речь у них, опять же, часто идет не столько о возрожденческой парадигме Серебряного века, сколько о «религиозном ренессансе» — тут метафора перестает быть метафорой и говорит об особом умонастроении русской интеллигенции этого периода. Значительно более глубокими представляются статьи Ю.Б. Орлицкого («Прозаическая миниатюра в творчестве русских предсимволистов») и особенно С.Д. Титаренко («Русская классическая поэзия XIX в. в раннем символизме: проблема модернистского текста и индивидуальные практики»). Ю.Б. Орлицкий исследует жанровое образование, в самой основе которого лежит модернистская идея «новых форм». Переход от эпохи к эпохе интересно прослеживается им на жанровом уровне. А С.Д. Титаренко затрагивает сущность предсимволистского преображения жизни «на основе активной переработки и семиотизации русской классической поэзии, когда она начинает осознаваться как металитературное поле притяжения и отталкивания» (с. 51—52). Вслед за З.Г. Минц и О. Хансеном-Лёве исследовательница полагает, что предсимволизм следует воспринимать как постепенный переворот, а не резкий слом в системе культуры. Цитирование русской и мировой классики в качестве органической части собственного текста характеризует всю поэзию предсимволизма. В качестве примеров рассмотрены стихотворения В.С. Соловьева, Д.С. Мережковского, Н.М. Минского, В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта.
За теоретическим следует четыре раздела с анализом более частных и конкретных явлений. Два из них посвящены творчеству двух крупных поэтов: А.К. Толстого и К.К. Случевского. Выбор этих фигур в качестве ключевых понятен: А.К. Толстой — пред-пред-символист, зачисленный современниками в стан «чистого искусства», но поэт настолько индивидуальный, что его эксперименты в чем-то предвосхитили поэзию рубежа веков. Случевский же с его авторитетом и знаменитыми «Пятницами» — безусловный мэтр для всего поколения старших символистов.
В обсуждении предсимволистской роли А.К. Толстого выделяются статьи В.В. Королевой, прослеживающей гофманианские реминисценции в прозе поэта, В.А. Кошелева, показывающего, как Толстой легализует раблезианское отношение к жизни при помощи жанра «медицинского стихотворения», а также статья Л.Г. Каяниди о перекличках двух программных стихотворений Толстого и Вяч.И. Иванова («Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель…» и «Творчество»). Весьма изящна работа Ю.Д. Артамоновой «Был ли Козьма Прутков реалистом?», соединяющая историко-философский и теоретико-литературный анализ с остроумной стихотворной игрой исследуемых текстов. Статья Е.Н. Пенской, сопоставляющая трилогию А.В. Сухово-Кобылина с драматической трилогией Толстого, интересна как доказательство присутствия «Смерти Иоанна Грозного» в «Смерти Тарелкина».
Третий раздел, «Лики “эпохи без временья”», объединяет статьи о творчестве А.А. Фета, С.Я. Надсона, А.А. Голенищева-Кутузова, В.С. Соловьева, а также — неожиданно — В.П. Буренина и М.А. Хитрово. Отсутствие в этом списке К.М. Фофанова и некоторых других поэтов (например, К.Н. Льдова или Алексея М.Жемчужникова) удивляет. Раздел сфокусирован на творчестве двух поэтов, весьма актуальных для символистского искусства: А.А. Фета и Вл. С. Соловьева. В.А. Геронимус воспринимает Фета как некий мост между Пушкиным и символистами, А.Г. Грек на примере двух стихотворений из «Вечерних огней» («Соловей и Роза» и «Кукушка») делится наблюдениями над музыкальностью Фета, научившей музыкальному стиху А.А. Блока, Вяч.И. Иванова, Андрея Белого. М.Я. Вайскопф, анализируя основы эпохального мировоззрения, рассказывает о «неразрешимой фетовской тяжбе между казуальностью и иррационализмом» (с. 177), которая проявляется не только в жизни, философских предпочтениях, переписке с Л.Н. Толстым, но и в поэтическом творчестве. О Вл. Соловьеве статей в привычном смысле нет (хотя концептуальная статья о поэтическом наследии великого философа в издании такого рода не помешала бы), их заменяют две важные публикации. А.П. Козырев публикует неизвестное письмо философа Д.Н. Цертелеву (времен их общей студенческой молодости) и письма историку П.И. Савваитову, из которых видны некоторые подробности деятельности Соловьева как члена Ученого комитета (подразделение Министерства народного просвещения, занимавшееся составлением, от бором и распространением учебной литературы). Письмо к Цертелеву весьма содержательно, а вот письма к Савваитову носят служебный характер и в таком виде не слишком интересны. Н.В. Котрелев републикует два стихотворения Соловьева, впервые опубликованные в 1897 и 1898 гг. в тифлисской газете «Кавказ», ранее ускользавшие от внимания исследователей и собирателей наследия Соловьева. Второе стихотворение, «Ирод Великий», публикатор тематически соединяет с приписываемым Соловьеву стихотворением «Разрушение Иерусалима» (опубликовано В. Строевым в 1926 г.) — как косвенное доказательство авторства Соловьева. По одной статье в этом разделе посвящено С.Я. Надсону (Л.П. Безменова анализирует мотив любви к мертвой возлюбленной в творчестве поэта: биографический сюжет преображается в русле романтической традиции) и А.А. Голенищеву-Кутузову (С.В. Савинков прослеживает в творчестве поэта центральную оппозицию «ночь — день», на которую накладываются вагнеровские и пушкинские мотивы). О.Л. Фетисенко предлагает обзор творчества М.А. Хитрово, включающий биографические сведения и отзывы критики (в том числе и Вл.С. Соловьева) о нем. Жаль, что обзорный характер статьи не позволил автору подробнее остановиться на признаках предсимволизма в его стихах. А вот К.А. Баршту в статье «В.П. Буренин как оппонент и предтеча литературного модерна», на наш взгляд, так и не удалось представить критика «предтечей». С одной стороны, автор утверждает, что Буренин «протестовал против привязки литературного текста к определенной идеологии, общественным вкусам, <…> религиозно-философским постулатам» (с. 197), с другой стороны, сообщает, что критик во многом соглашался со статьей Л.Н. Толстого «Что такое искусство?» (где утверждается, что истинное искусство всегда религиозно значимо), а также упрекал поэтов-символистов в том, что они отказываются «преследовать цели» и «искать идеалы» (с. 205), т.е. за отсутствие идеологии.
Раздел, посвященный К.К. Случевскому, открывается статьей В.Л. Коровина, сравнивающей «Элоа» А. де Виньи и «Элоа» Случевского. На основе сюжета французского романтика, считает автор, появилось произведение, полное православной (в духе Достоевского) религиозности. Е.А. Тахо-Годи, автор монографии о творчестве Случевского, рассматривает книгу Случевского «Песни из Уголка» (1902) на фоне концепта «Дом поэта», восходящего к Державину и сентименталистам. Предсимволистское решение темы у Случевского продолжено в новый век — текстовыми совпадениями «Песен из Уголка» со стихотворением М.А. Волошина «Дом поэта» (1926). Статья Т. Смородинской посвящена снам в творчестве Случевского. Если в прозе они играют дидактическую и научно-популяризаторскую роль, то в стихотворных произведениях поэт предвосхищает поиски символистов, стиравших грани между сном и явью, сознательным и бессознательным. М.В. Ефимов задается вопросом, почему один из крупнейших критиков эмиграции Д.П. Святополк-Мирский так ценил наследие Случевского (на него повлияло мнение В.Я. Брюсова), а С.А. Гарциано рассказывает об эмигрантской рецепции творчества А.К. Толстого, Случевского, Н.М. Минского и К.Н. Льдова (два последних поэта завершали свою деятельность в эмиграции).
Статья С. Гарциано становится плавным переходом к последнему разделу — «Предсимволизм в отражениях», менее всего систематизированному. В нем С.В.Сапожков публикует письмо И.Ф. Анненского к С.А. Андреевскому (1885), посвященное разбору поэмы последнего «Обрученные» (письмо это интересно как один из первых критических опытов Анненского); Дж. Меррилл анализирует стихотворные тексты (в том числе предсимволистские), создающие значимые подтексты в пьесе Ф. Сологуба «Заложники жизни»; М.А. Самарина полагает, что Лихутин из романа А. Белого «Петербург» — это персонаж, наделенный чертами В.С. Соловьева; В.В. Никульцева прослеживает фофановские мотивы в творчестве Игоря-Северянина; Г.М. Лесная изучает поэзию украинского предсимволизма и литературную группу «Молодая муза»; В.А. Котельников убедительно указывает на двойственность мировоззрения А.Л. Волынского, унаследовавшего от отца талмудическую традицию, а от матери хасидизм (мысли Волынского об иудаизме оказываются близки идеям В.С. Соловьева), и публикует фрагмент из ненапечатанной книги Волынского «Рембрандт»; Е.Д. Толстая продолжает тему, находя черты А. Волынского в фигуре философа Басса из повести Е.И. Замятина «Бич божий». Выделяется статья В.Э. Молодякова, повествующая о Д.П. Шестакове (поэте не то что второго, а третьего ряда — со времен формалистов лучший способ описания основ литературного процесса) и ставящая его между А.А. Фетом и А.А. Блоком — двумя поэтическими столпами.
Логическим завершением темы неизвестных поэтов становится статья А.В. Маньковского, рассказывающая о рукописном (так никогда и не напечатанном) сборнике стихов Н.Н. Полянского.
В целом труд, подготовленный Е.А.Тахо-Годи, представляется существенным шагом в изучении предсимволизма. Разнообразие трактовок и подходов кажется сильной стороной этого издания: предсимволизм настолько рыхл и неоднороден, что единая теория (как у символистов) ему совершенно не подходит.
Работа выполнена в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН при поддержке РНФ (проект№17-18-01432-П).
Е.Р. Пономарев
Алексей Чичерин: Конструктивизм воскрешения:
Декларации, конструэмы,
поэзия, мемуары. Исследования и комментарии /
Сост. А.А. Гончаренко; под ред.
А.А. Россомахина.
СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-
Петербурге, 2019. — 320 с. — 1000 экз. —
(AVANT-GARDE. Вып. 17).
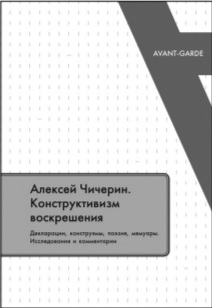
В книге представлены произведения основателя Литературного центра конструктивистов (от деклараций до репринтов того, что сейчас отнесли бы к визуальной поэзии, а порой и к абстрактной графике), фрагменты статей о нем 1920-х гг., исследования С. Бирюкова, А. Гончаренко, О. Мороза и А. Россомахина, основательный библиографический список произведений Чичерина, биографических и библиографических свидетельств и исследований о нем, изобразительный материал (портреты, афиши, обложки книг, копии документов).
Видимо, на Чичерина очень повлияло то, что он в молодости занимался художественным чтением. Звучание слова интересовало его постоянно. Уже в первом сборнике «Шлепнувшиеся аэропланы» он пытался воссоздать многообразие голосов. Не миновал он и символистской звукописи, и футуристской зауми («ротастыя рты мордоворотили язычищными жерновами жирь шарчущих шашень», с. 23). Из-за недостаточности стандартного алфавита для записи тонких оттенков звучания, на которые Чичерин хотел обратить внимание (показатели «краткостей и долгот, тембров, темпов, тонаций», «разнохарактерных призвуков» и т.д., с. 75), он переходил к все более сложным авторским системам фонетической записи, делающим чтение затруднительным, и все более характерным и трудно осуществимым ремаркам для «исполнителя» («читать — как понукают лошадь», с. 22).
Далее на этом пути было что-то, напоминающее партитуры (как полагает С. Бирюков, с. 184), в которых все более усиливался элемент визуализации, чему способствовал другой опыт работы Чичерина — в полиграфическом производстве, как технического редактора. Это парадоксально (но внутренне логично) порой приводило к отказу от звуков вообще (все главы поэмы «Звонок к дворнику» — рисунки), порой — к синтетическому произведению, включающему слово, музыку, графику и даже танец. Так, в свое исполнение поэмы В. Каменского «Степан Разин» Чичерин ввел танец княжны, исполнявшийся ученицей школы ритмики и пластики, и ритмы танца и чтения стихов соотносились (с. 200). Соответственно произведениям Чичерина, их интерпретация исследователями напоминает порой разговор о графике: «…от креста, находящегося в правостороннем квадрате, исходит луч, который пробивает оболочки квадратов, преобразуется в пучок, от удара этого пучка еще один луч устремляется к верхней оконечности креста» (с. 182, С. Бирюков). Чичерин внес в литературу и элементы перформанса. Содержание конструэмы «Ав’э к’i вi коф», видимо, действительно связано с религией, но отпечатывание данной конструэмы на прянике с последующим его съедением — не пародия ли на причастие? Может быть, поэтому А. Россомахин пишет, что Чичерина «можно назвать пионером отечественного концептуализма» (с. 249), хотя еще более Чичерин является предшественником авторов с большой долей визуальности в текстах, например тех, кто группировался вокруг альманаха «Черновик», который издавал А. Очеретянский.
С точки зрения фонетики чтения анализировал Чичерин и стихи Маяковского в своих воспоминаниях 1939 г. о нем. Маяковский получился у Чичерина весьма далеким от требуемой в те времена иконы, с множеством противоречий. Чичерин коснулся и темы бюрократического засилья, и сложных взаимоотношений Маяковского, например, с поэзией Ахматовой. Не удивительно, что воспоминания опубликованы не были.
В последние годы жизни выдавленный из литературы Чичерин создал «Поэму» — сатиру на советскую жизнь (где «страшнее Ада / общественная громада», липкую ленту от мух продают, только когда настают морозы, а дух — вредитель, которого травят как вшей и клопов, с. 151—153) и приспособленцев к советской власти. Она значительно проще конструэм 1920-х гг. Но ирония и интерес к фольклору были свойственны Чичерину всегда (вот, например, частушка 1923 г.: «Ка пусыкы мая / Мелыкарубьльная, / Атайдити, лбуда, / Я напу!дрьная» — с. 60). «Поэма» содержит эффектные составные рифмы («Орлить»— «с гор лить», с. 129), фонетические ходы («Ас! / лабанитя / ат. / раб. / бо-о / ты-ы…», с. 131), составные слова (кабернетика, где звучат и каберне, и кибернетика, с. 132), строки, от которых не отказался бы и А. Введенский («с напористостью сверла / весна несла в крылах орла», с. 132), так что связь с ранним творчеством Чичерина все же имела место, и «Поэма» — не настолько лубок, как ее часто характеризуют исследователи в книге. Тем более, что в «Поэме» О. Мороз обнаруживает огромное количество подтекстов. Видимо, там действительно присутствуют отсылки к В.В. Розанову и Н. Заболоцкому, есть пародия на прием остранения В. Шкловского. С прототипами приспособленцев на высоких должностях сложнее — О. Мороз находит параллели с тем же Шкловским и А.Т. Твардовским, но похоже, что взлеты и падения литературных и жизненных карьер были свойственны не только им.
Кажется чрезмерным желание А. Гончаренко и О. Мороза привязать Чичерина к взглядам Н. Федорова. На объективности образа или необходимости индивидуализации похорон настаивал не один Н. Федоров. Геометрические соображения Чичерина: «…всякой твари знак — прямой угол: горизонталь с вертикалью; жизнь, действенное верчение — вертикаль; горизонталь вольная — временный отдых, подневольная горизонталь — смерть» (с. 26) — близки скорее к Кандинскому, с которым соотносится и графика Чичерина. Единственное воскрешение в «Поэме» — разве что пародия на Н. Федорова: сатана воскрешает негодяя и демагога (который требовал механизации ада), чтобы тот продолжал делать зло живущим. Упоминаемый в тексте наряду с Гутенбергом «Кан-фун» Федоров — скорее всего, первопечатник. Едва ли Чичерин с его свободолюбием мог вообще быть сторонником мрачной коллективистской утопии. Собственно, и О. Мороз отмечает, в конечном счете, что Чичерин, «скорее всего, не разделял некоторых существенных положений “философии общего дела”» (с. 234). Скорее можно говорить о платонизме Чичерина: «...закон конструктивной устойчивости, по которому после гибели одной вещи могут быть организованы бесчисленные количества ей подобных, — непреходящ, вечен, один» (с. 79) — и близок к понятию идеи у Платона.
К счастью, исследователи относятся к Чичерину без чрезмерного почтения. Так, С. Бирюков отмечает противоречие между конструктивистскими декларациями о необходимости целесообразности и пользы — и уходом Чичерина во все боле е сложные произведения, «полезность» которых стремительно исчезала (с. 181). Жаль, что только упомянуты А. Россомахиным и С. Бирюковым многочисленные футуристские предшественники Чичерина в области визуальной поэзии, связь Чичерина с ними, кажется, заслуживает более подробного рассмотрения. Может быть, интересно было бы более основательно исследовать расхождения Чичерина с формалистами, которых он критиковал (может быть, за чрезмерную нормативность?), но сам использовал идеи, очень близкие к их концепциям: искусство как прием или теснота стихового ряда. Почти обойден вопрос о соотнесении конструктивизма в литературе с конструктивизмом в архитектуре. Но в любом случае книгу отличают многосторонность и основательность исследования, свойственные и другим изданиям этой серии.
Александр Уланов
Шеметова Т.Г.
Пушкин в русской
литературе XX века: от
Ахматовой до Бродского.
М.: Ridero, 2017.

Докторская диссертация Т.Г. Шеметовой, защищенная в 2011 г., стала основой рецензируемой книги, выпущенной в «интеллектуальной издательской системе» «Ridero» (и не появившейся в библиотеках страны, а доступной, по-видимому, только в виде электронного документа). В основе книги — обзор художественных интерпретаций биографии Пушкина, систематизированных по тематическим блокам. Эти блоки автор предлагает считать составными частями общего биографического мифа о Пушкине, выделяя группу «мифологем-образов» (чудо-ребенок, няня, сверчок, потомок негров) и «мифологем-акций» (утаенная любовь, про рок (памятник), дуэль, заповедник).
Каждая из этих мифологем рассматривается на нескольких примерах воплощения в творчестве писателей и поэтов от Серебряного века до начала XXI в. Несомненно, автор не ставит цели охватить «всю пушкиниану» (это вряд ли возможно — в Пушкинском Доме в систематическом каталоге только «ящик» с романами о Пушкине насчитывал более 400 карточек еще к моменту двухсотлетия поэта; между тем Т.Г. Шеметова сосредоточена не только на «открытых» писательских диалогах с биографией Пушкина, но и на всевозможных скрытых аллюзиях и перекличках). Но сам метод, примененный автором (сравнение двух-трех воплощений той или иной мифологемы с целью увидеть механизмы ее трансляции во времени), а также стиль книги делают чтение этих примеров увлекательным и позволяют по-новому воспринимать «художественную пушкинистику». Автор внимательно исследует романы таких разных по самой сути отношения кПушкину писателей, как Набоков, Синявский, Дружников, Армалинский, Тынянов, Битов, Толстая, и других, стремясь описать «эффекты мифа», становящегося импульсом художественных концепций.
По мысли Т.Г. Шеметовой, настойчивое обращение авторов к Пушкину, несмотря на официальное его признание и превознесение, является знаком гносеологического, философского потенциала пушкинской биографии — какими бы интерпретациями она ни «прирастала». Почти религиозное преклонение и откровенный стеб одинаково вдохновлены значимостью этого биографического мифа. Стихи, пьесы, рассказы, романы, документальная про за известных и забытых писателей и поэтов XX в., собранные в книге как доказательство неисчерпаемости и нелинейности пушкинского мифа, раскрывают, по мнению Т.Г. Шеметовой, причины «внутрицехового» обращения к Пушкину: это постоянный поиск ответа на вопрос о месте литературы в обществе.
Особый интерес для искушенного читателя-исследователя представляют глубокие замечания автора о книгах, получивших «клеймо очернительских» (например, романов Дружникова и Армалинского). По мысли Шеметовой, дело не в том, какие черты биографии Пушкина и в каком ключе представляют писатели, а в том, что через пушкинскую судьбу все время ставится вопрос о судьбе России или даже русскости (как Пушкин становится синекдохой этой русскости и что из этого следует).
Выбрав тематический принцип организации материала, Т.Г. Шеметова освобождает себя от необходимости «привязки» ко времени и социальному контексту. Одна и та же мифологема может быть рассмотрена на примерах произведений 1920-х и 1990-х гг. Избирательность автора объяснима и провокативна: читатель может «достраивать» предлагаемые линии анализа так, как ему хочется, на любом другом матери але (или «подставлять» книги о Пушки не в предложенные «блоки»). К сильным сторонам исследования Т.Г. Шеметовой следует отнести принцип универсального упорядочивания абсолютно разнородного материала, а также указание на имплицитную связь с пушкинским биографическим мифом ряда «неожиданных» и недостаточно изученных в литературоведении произведений (например, «Дачного романа» Ахмадулиной).
«Советскость» Пушкина XX в. оказывается не такой уж значимой, во всяком случае, «идеологические» оппозиции в писательских интерпретациях жизни Пушкина сглаживаются, поскольку в центре внимания неизбежно оказывается психология творчества (а все остальное — обстоятельства вдохновения или его отсутствия).
В то же время при чтении книги Шеметовой возникает ощущение стремительного устаревания самой темы (Пушкин): с момента защиты докторской диссертации автора ситуация в области социологии чтения и литературы серьезно изменилась в сторону заметной маргинализации художественной литературы. Этот сдвиг (фиксируемый еще в 1990-е гг., но тогда, скорее, рассматриваемый как «общий упадок» культуры) ведет к завершению «пушкинского периода русской литературы», в широком смысле этого выражения — как периода, когда нация нуждалась в герое. В 1841 г. Томас Карлейль сравнивал мощную имперскую Россию и маленькую разрозненную Италию в пользу последней, поскольку у той был Данте, а русский император оставался «безъязыким» (см.: Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории / Пер. с англ. В.И. Яковенко. СПб., 1908). В самом этом сопоставлении звучало что-то вроде «интернациональных ожиданий» от каждой нации («иметь своего Шекспира»). Пушкин играл роль такого героя на всем протяжении литературоцентричного периода культуры.
Однако децентрализация литературы повлекла и девальвацию этой роли. Биографический миф о Пушкине как «поэте номер один» завершается вместе с предшествующим периодом, что позволяет рассматривать художественные «реинкарнации» Пушкина, собранные Шеметовой, в контексте «безусловно литературной» рецепции (сама литература, поэзия не подвергается в них вопрошаниям, а биография Пушкина рассматривается, как бы авторы ни старались уйти от этого, по вертикали «соответствия» сакральной роли «первого поэта»: достоин или нет?). В книге 2017 г. Т.Г. Шеметова к этим сдвигам недостаточно внимательна (нет ревизии цели исследования ее докторской диссертации): читателю предлагается концепция «вечно живого мифа о Пушкине», который постоянно привлекает внимание новых поколений писателей и поэтов своим масштабом (и даже в большей мере — своими социальными функциями). Интересно, что Шеметова указывает на редкость имени Арина в России в связи с широким распространением мифологемы «няня поэта» в коннотациях дряхлости, старости. Однако в 2016 г., например, в Санкт-Петербурге имя Арина попало в число самых частотных по статистике именования новорожденных (см.: http://kzags. gov.spb.ru/statistics/, дата обращения 06.09.2020). Даже на этом примере можно видеть, что новые поколения родителей-миллениалов уже нечувствительны к таким мифологемам.
Интересно, что сам факт обращения поэтов и писателей именно к биографическому мифу о Пушкине (а не к его творчеству) на всем протяжении XX в. «снимает» вопрос о месте Пушкина в русской культуре (то есть признает этот вопрос решенным, а значит, выведенным за зону какой бы то ни было рефлексии). Стимулом к «присвоению» Пушкина (в позитивном или негативном ключе) становится его «секулярная христоподобность», такое присвоение предполагающая. Шеметова извлекает из биографического мифа «ключи» к пониманию самосознания литературы как части социальной жизни (нуждающейся, по Малиновскому, в «хартии» — постоянном обновлении и конституировании своей общественной значимости; см.: Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 2005. С. 49—50), а также показывает, как в писательских рефлексиях биографии Пушкина реализуется тема «нравственного императива» (возможно ли совместить «гениальность» и «злодейство»). Автор книги избегает обширных экскурсов в историю «пушкинистики второго порядка» (исследований биографий Пушкина), поскольку, возможно, эта тема требует отдельного монументального труда; однако для читателей-исследователей нехватка такого фона будет порой чувствительной. Так, биографы Пушкина Бартенев и Анненков были далеки от дружной идиллии «Петра и Павла», как их называет Шеметова, скорее представляя собой пример борьбы двух современников за «пальму первенства» в проставлении всех точек над i в истории «поэта номер один», и это соперничество нуждается в более внимательном рассмотрении именно как исток артикуляции пушкинского биографического мифа.
В целом книга Т.Г. Шеметовой являет собой пример увлекательного чтения, открывающего ряд неожиданных параллелей и стимулирующего к пересмотру стереотипных представлений не только о жизни Пушкина, но и о том, как эти стереотипы становились объектом художественного исследования во множестве произведений XX в. Автор прекрасно чувствует грань между «идеологической конъюнктурой» советского времени и исследовательской интенцией «эха» биографического мифа в литературе, нигде в книге не сбиваясь на «оценочный» тон (так свойственный многим исследованиям, связанным с Пушкиным и его биографией).
Поэтому книга «Пушкин в русской литературе XX века: от Ахматовой до Бродского» — это серьезный вклад в изучение пушкинского биографического мифа, а также значимый пример социолитературного филологического исследования.
М.В. Загидуллина
Rapp K.
Napoleon und der «Vaterländische Krieg» in Russland:
Funktionen populärer
Geschichtsdarstellungen
im Jubiläumsjahr 1912.
Bielefeld: Transkript, 2020. — 400 S. — (Historische
Lebenswelten in populären Wissenskulturen
/ History in Popular Cultures. Bd. 19).
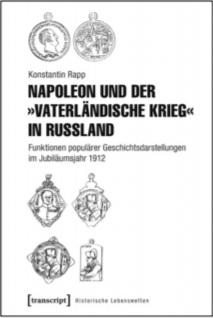
Книга Константина Раппа «Наполеон и “Отечественная война” в России: функции популярных образов прошлого в юбилейном 1912 г.» продолжает ряд исследований, посвященных этой теме в российской и зарубежной историографии (Лиманова С.А. Столичные торжества Российской империи в царствование Николая II. М., 2017. С. 238— 269; Цимбаев К.H. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX — начала ХХ века // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98—108; Schneider K. 100 Jahre nach Napoleon. Rußlands gefeierte Kriegserfahrung // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 49. № 1. S. 45—66). При этом, если в более ранних работах предметом изучения становились церемониальная сторона праздников, их значение для мемориальной культуры, политическая инструментализация юбилеев, а также значение монументальной пропаганды в ту эпоху (см.: Еремеева С.А. Памяти памятников. Практика монументальной коммеморации в России XIX — начала ХХ вв. М., 2015. С. 17—112), то в книге Раппа ставится задача понять, как осмыслялось значение той войны в издававшейся по случаю юбилея популярной исторической и художественной литературе. По мнению автора, именно в связи с войной против Наполеона возникает мифологема, сохраняющая актуальность до сих пор и нуждающаяся в критическом осмыслении: невзирая на первоначальные трудности и на техническую мощь Запада, Россия за счет своего морально-духовного превосходства все равно добьется победы и мессиански спасет Запад от самого себя. Особое значение для формирования таких представлений имел именно юбилей 1912 г. — до того годовщина войны широко не отмечалась. Даже пятидесятилетие со дня ее окончания прошло в тени освобождения крестьян и празднования Тысячелетия России.
Рапп обращается сначала к популярным историческим сочинениям. Как пример официальной точки зрения на прошлое рассматривается брошюра П.М. Андрианова «Великая Отечественная война», изданная в 1912 г. при поддержке Императорского Русского военно-исторического общества. Рапп соглашается с Цимбаевым и Шнайдером, что в этой брошюре впервые была официально признана ключевая роль русского народа в победе. Прежде, хотя и существовали лубочные изображения борющихся с французами крестьян, основная заслуга приписывалась царю, армии и воле Божьей. Андрианов подчеркивает единение царя и народа в борьбе с неприятелем, при этом народ поднимается на борьбу не спонтанно, как это пытались представить либеральные историки, а вняв манифестам от 6 и 11 июля 1812 г. Другой рассматриваемый пример официоза — театрализованная историческая хроника А.И. Бахметьева «Двенадцатый год», состоявшая из тридцати шести картин. По случаю юбилея она была в сокращенном виде поставлена в петербургском Александринском театре и в московском Большом, при этом особое внимание уделялось точности изображения военных событий. На деле, однако, как отмечает Рапп, Бахметьев ориентировался на сложившиеся к тому времени популярные образы войны. Так, шестая картина воспроизводила знаменитое полотно художника А.Д. Кившенко «Совет в Филях» (1880), на котором фигурирует девочка Малаша, придуманная Л.Н. Толстым в романе «Война и мир» для со здания остраненного взгляда на происходившее. Критика того времени не одобряла чрезмерное следование Толстому, но в целом положительно отзывалась о стремлении Бахметьева к достоверности, его способности представить героев 1812 г. как живых.
Либеральную трактовку событий войны Рапп исследует на примере хрестоматий и книг для чтения по истории, издававшихся исторической комиссией московского Общества распространения технических знаний. Так, в вышедшей в 1909 г. и переизданной в 1912 г. «общедоступной хрестоматии» «Рассказы по русской истории» под редакцией С.П. Мельгунова и В.А. Петрушевского больше внимания уделялось свидетельствам иностранцев — что бы показать общечеловеческий трагизм войны. Вместо всеобщего единения вокруг трона подчеркивается особая роль крестьян, которые, однако, оказались и главными проигравшими — как вследствие разорения от военных действий, так и из-за того, что война способствовала консервативному повороту во внутренней политике и надолго задержала отмену крепостного права. В изданиях 1909 и 1912 гг. война не называется отечественной, это наименование появ ляется только в переработанной версии хрестоматии, изданной в 1915 г. По мнению Раппа, юбилей 1912 г. вынудил либеральных историков больше считаться с официальной версией прошлого. Другой пример либеральной популярной истории — «Книга для чтения по истории Нового времени» под редакцией М.В. Бердоносова, А.М. Васютинского, А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.Н. Перцева и В.И. Пичеты, третий том которой, посвященный XIX в., вышел в 1912 г. Как ключевое для истории XIX в. событие здесь рассматривается Французская революция, повлекшая за собой целый ряд протестных выступлений, изменивших жизнь Европы. Война 1812 г. оказывается лишь преддверием куда более важного для истории России события — восстания декабристов. При описании войны внимание уделяется не столько интенциям правителей, сколько социально-политическим рамкам происходящего. Так, причина отказа царя от освобождения крестьян видится в отсутствии заинтересованного в этом социального класса, в то время как у самих крестьян не было необходимой политической сознательности.
Третьим проектом, осуществленным историками круга Мельгунова, был двухтомник «Наше прошлое. Рассказы из русской истории» (1913—1915), задуманный как дополнение к учебнику истории для младших классов. В нем вновь критикуется представление о народном характере войны: указывается, что помещики посылали крестьян в ополчение «за пороки» или «во страх другим», что они таким образом избавлялись от больных и неспособных к работе, что плохо вооруженные и почти непригодные для боевых действий ополченцы использовались для земляных работ да охраны обозов. Как русские крестьяне, так и простые французские солдаты представляются жертвами войны. Затем автор переходит к исследованию популярных литературных повествований и много внимания уделяет их предыстории. Так, появление романа М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 г.» вызвало дискуссию о возможности соединения в литературном произведении вымышленного сюжета с достоверным отображением исторических обстоятельств. В частности, А.С.Пушкин высказывается за необходимость соединения правды и вымысла и даже сочиняет иную версию рассказанной Загоскиным истории, выглядящую сюжетно и исторически более убедительной. В результате, по мнению Раппа, Пушкин в большей степени, чем Загоскин, способствовал превращению войны 1812 г. в ключевое для русского национального самосознания событие. При этом пушкинская версия, в которой героиня Загоскина оказывается не предательницей, а пламенной патриоткой, вполне согласовывалась с официальной трактовкой победы в войне как основанной на морально-духовном превосходстве над врагом.
Вслед за А.Ю. Сорочаном Рапп отмечает, что реализовать пушкинское требование соединения правды и вымысла оказалось трудно и более востребованной стала модель чередования исторических и романических глав, предложенная А. Дюма. Ее влияние проявилось уже в серии романов участника войны Р.М. Зотова. Также и у Л.Н. Толстого в «Войне и мире» можно выделить исторические, литературные и философские главы. Этой традиции следовали и позднейшие авторы вроде Д.С. Дмитриева. Его сочинения считались бульварной литературой, однако насыщенность историческими фактами и изображение большого количества реально существовавших исторических персонажей от ве ча ли интересу простого читателя к русской истории. Рапп подробно рассматривает также роман Г.П. Данилевского «Сожженная Москва», который критики хвалили за хорошо выстроенные взаимосвязи между историческими и вымышленными событиями. В частности, писатель близко следует воспоминаниям В.А. Перовского и даже сохраняет его фамилию за главным героем. В то же время он, подобно Толстому, подчеркивает значение случая в истории, а его патриотичная героиня Аврора похожа на Полину из пушкинской версии «Рославлева». Другой тип повествования, по словам Раппа, представляет собой историческая проза Д.Л. Мордовцева, у которого история становится источником всеобщего и вневременного опыта.
По наблюдениям Раппа, литературных произведений, непосредственно связанных с юбилеем 1912 г., было написано совсем немного, а то, что было написано, адресовалось преимущественно детям. В сочинениях В.П. Авенари уса отображение войны подчинено педагогическим целям. И.А. Любич-Кошуров в романе «Пожар Москвы в 1812 г.» тоже стремится совместить развлечение и обучение юных читателей, при этом превращая историю в увлекательное приключение; о войне 1812 г. он пишет с антимилитаристских позиций, осмысляя ее сквозь призму Русско-японской войны. Как пример литературы для взрослых рассматривается рассказ Б.А. Щетинина «Отрубленный палец (эпизод из эпохи Отечественной войны)», в котором эклектично комбинируются типичные персонажи и мотивы из произведений других авторов, что создает сатирический эффект. В конце книги кратко анализируются музыкальные и кинематографические репрезентации Отечественной войны, появившиеся к ее юбилею.
По прочтении книги Раппа создается впечатление, что роль государства в конструировании памяти о войне 1812 г. как до юбилея, так и в юбилейный год была довольно слабой, и это не вполне согласуется с тем, как настойчиво различные либеральные авторы пытались противостоять официальной версии прошлого. Представляется, что дело здесь в асимметричном отборе источников: так, автор рассматривает либеральные хрестоматии и книги для чтения, изданные задолго до юбилея и после него, но не рассматривает официальную учебную литературу того же времени; кроме брошюры Андрианова и хроник Бахметьева, официальная точка зрения больше ничем не представлена.
Само сведение многообразия позиций к двум, официальной и либеральной, вряд ли оправданно. Показатель но, что о многих текстах в книге не упоминается: юбилейные издания вроде «Московское дворянство в Отечественную войну» или «Воронежское дворянство в Отечественную войну» представляли точку зрения дворянских собраний, которые нельзя идентифицировать ни с правительством, ни с учеными либералами; с другой стороны, например, в московском Театре Корша помимо пьесы «В годину славы» А.М. Смолдовского поставили «Победителей» члена РСДРП Н.Ф. Олигера. Впрочем, конец августа, когда проходили официальные торжества, — не театральный сезон, публике нужно было довольствоваться иным и местами увеселений. Московская «Газета-копейка» сообщала, что в Зоологическом саду показывают комедию в пяти действиях «Война и мир» «из романа Л. Толстого», а также «грандиозное зрелище — движущуюся живую картину на воде: Торжественная переправа Наполеона через Неман»; в саду «Ренессанс» предлагали «сенсационную новинку» «Наполеон и Жозефина». Казалось бы, это и есть популярные трактовки истории в связи с юбилеем, но и о них Рапп не пишет, как и о постановках в народных домах и многом другом.
Популярная историческая литература при этом определяется в книге очень широко — как всякая литература, выполняющая функцию распространения знаний (или мифа) о прошлом. В ре зультате не учитываются различия в циркуляции текстов. Почти ничего не пишет Рапп о материальных качествах книг: форматах, шрифтах, обложках, качестве бумаги — и лишь изредка упоминает о наличии иллюстраций. Ничего не сказано о цене книг, о способах их распространения, об их наличии в общедоступных библиотеках и т.п. Вообще остается неясной связь этих текстов с социальной практикой в разных ее аспектах. В конечном счете исследование выглядит по большей части как традиционная история идей, написанная вполне качественно, но оставляющая очень многие возможности неиспользованными.
Евгений Савицкий
Второй Всесоюзный съезд
советских писателей.
Идеология исторического
перехода и трансформация советской литературы.
1954: коллективная монография / Сост. К.А. Богданов,
В.Ю. Вьюгин.
СПб.: Алетейя, 2019. — 586 с. — 500 экз.

Подготовленная в ИРЛИ РАН книга посвящена Второму съезду советских писателей (15—26 декабря 1954 г.), который был созван вскоре после смерти Сталина и отразил, по мнению составителей, «специфику того уникального очень краткого периода междувластия, когда развенчание культа только что почившего диктатора еще не оформилось в отчетливую политическую линию» (с. 5).
Прежде всего отметим, что это первая такая работа и что до сей поры в исследованиях по советской культурной и политической истории ни Второй, ни даже гораздо более известный Первый «сталинский» съезд советских писателей (1934) не становились предметом столь серьезного и последовательного рассмотрения. Авторы и составители этого сборника обработали едва ли не все существующие источники — в большой вводной статье В.Ю. Вьюгин представляет исчерпывающий свод «околосъездовской» литературы и различает «три корпуса критических высказываний», соответствующие «трем разным идеологическим контекстам»: внутреннему — советскому, альтернативному — зарубежному и, наконец, постсоветскому, где «оценки перестали принципиально зависеть от географии» (с. 14). Собственно «осмыслению» съезда как события, его обстоятельствам и реконструкции дискуссий посвящен первый раздел этого сборника — «Стратегии съезда». В той же вводной статье, подробно представив околосъездовскую расстановку сил и аппаратную интригу, основные темы докладов и объекты критики (порой неожиданные, как например С. Михалков и его сатирическая пьеса «Раки»), автор приходит к выводу, что, подвергнув инвентаризации, регламентации и фактической канонизации советское литературное наследие, подтвердив приверженность «горьковской эстетической парадигме», съезд тем не менее определил принципиальные изменения в литературной политике — так, институт критики был понижен в своем ранге, и критик перестал быть «вестником, оглашающим окончательный приговор провинившемуся писателю» (с. 107).
Другие авторы этого раздела анализируют отдельные доклады и «жанровые» дискуссии (если «национальные» литературы в их советском изводе или «советскую школу перевода» можно полагать «жанрами»). С. Витт замечательным образом показывает, как на съезде и в порядке предсъездовских обсуждений конструируется собственно концепт «советская школа перевода», как он формулируется — «от противного», в борьбе с «формализмом» и «буквализмом», и как Иван Кашкин применяет здесь дискурсивную риторику 1930-х. В свою очередь Е.А. Добренко останавливается на «национальных» представительствах, которые на этом съезде составляли очевидное большинство, а также на самом концепте «многонациональной советской литературы» с ее «универсалистским пафосом»; он отмечает приметы десталинизации, как то: «осторожную реабилитацию» эпосов и компаративистики, некоторые изменения в оценках национальной классики, наконец, либерализацию дискуссий в «братских литературах» Восточной Европы, которая приводит, в конечном счете, к фактическому уходу со сцены социалистического реализма, превращению его в «исторический эпизод» и «ритуальный код». М.Р. Балина представляет критические дискуссии начала 50-х и изменения политики в области детской литературы, комментируя «метания» Бориса Полевого (основного докладчика) и позиции его критиков. Но в этом случае точку зрения исследователя не всегда можно отличить от риторики критиков Полевого, по крайней мере, реабилитация детской сказки Чуковского и неприятие «такой же» (на самом деле, не такой!) детской сказки Шварца свидетельствуют не столько о «неграмотности» Полевого и противоречивости его позиции, сколько о специфической вкусовой чувствительности, свойственной советским аппаратчикам. Присущая Шварцу романтическая ирония с ее «двойным дном» представлялась гораздо опаснее литературной игры Чуковского (что, к слову, становится очевидно из документов, приведенных в помещенной рядом статье В. Гудковой, посвященной именно театральным сюжетам и «драматургическим» историям 50-х, в частности постановке «Голого короля» Шварца и резонансному разгрому пьесы Л. Зорина «Гости»). Заметим также, что Юрия Яковлева уместнее было бы называть «детским писателем» (а не поэтом, как на с. 173), а украинскую поэтессу звали Наталья Забила (не Забела, — с. 181). Добавим, что назначенный «главным детско-юношеским писателем» Полевой в известный момент сменит В.П. Катаева у руля журнала «Юность», и в этом контексте стоит упомянуть исключительно интересный и остроумный анализ ролевых и риторических стратегий Катаева, который предлагает М.А. Литовская: он, как показывает исследовательница, готовясь выступить главным редактором молодежного журнала, строит свой благостный, но на самом деле программный доклад на апологии Горького — наставника молодежи.
М.Н. Липовецкий свою статью о докладе Михаила Шолохова назвал «Поэтика скандала»: он показывает, каким образом характерные для скандала «трансгрессия нормы» и эффект «десемиотизации системы» проявляются в речи Шолохова. При этом он объясняет спонтанную атаку на номенклатурные и символические авторитеты (Симонова и Эренбурга), предпринятую Шолоховым, присущей межвременью «неразмеченностью политического поля» и проводит тонкую и убедительную параллель между «карнавальной» формой речи Шолохова и публичными выступлениями Н.С. Хрущева. То есть фактически Шолохов угадал («предвосхитил») новый дискурс власти, смену «проработочной» риторики.
К. Ходгсон пишет о выступлении Ольги Берггольц, которое фактически повторяло тезисы ее более ранних реплик в «Литературной газете» («Разговор о лирике» и «Против ликвидации лирики») и стало еще одной версией знаменательной статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе». К той же статье и к «дебатам о лирике» обращается Л.В. Рудова: героем ее «лирического отступления» стал Борис Пастернак, который не принимал участия в съезде и был там едва упомянут, причем в качестве переводчика. Исследовательница, к слову, в начале своей статьи эффектно отмечает эту разницу между статусом Пастернака на Первом и Втором съездах, что, в самом деле, показательно. Но далее она «закрепляет успех», сообщая, что за 20 лет между съездами Пастернак «публикует только два тоненьких поэтических сборника, явно угождающих вкусам массового читателя и требованиям соцреалистического регламента» (с. 273). Это смелое и очевидно упрощающее картину утверждение требует пояснения, однако никакого пояснения за ним не следует, разве что затем на с. 283 Рудова вновь называет эти сборники, т.е. все циклы, вошедшие в сборник «На ранних поездах», «незначительными». Внутренний посыл статьи в том, чтобы по контрасту с «незначительными» стихами 1930—1940-х обозначить новые «стихи из романа» как утверждение «лирической субъективности», «подтачивающее соцреалистический регламент», но, по нашему мнению, поэтике Пастернака присуща другая логика, и общая картина его творчества не столь однозначна. Во втором разделе сборника представлены разного порядка околосъездовские «культурно-идеологические контексты», характеризующие межвременье, период между сталинизмом и «оттепелью». И.М. Каспе рассматривает научную фантастику этого периода и соответствующие «проекты будущего» с его заданными «пределами», — ближними и предрешенными, коль скоро уже «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Будущее предстает «окаменевшей утопией» — рациональной и полностью контролируемой, а лейтмотивом статьи, в конечном счете, становится «предчувствие “туманности”», — «ощущение грандиозного перелома, охватившее первых читателей “Туманности Андромеды”» (с. 380). А.А. Панченко назвал свою статью «Русский фольклор в 1954 году», но речь там, скорее, об истории проекта «советский фольклор» и его «кончине», последовавшей за «проработочной» кампанией конца 1940-х. Кампания эта была направлена против «космополитизма», «низкопоклонства» и «веселовщины», но, как убедительно показывает автор статьи, стала результатом (или «случайным эпизодом») «большой и <...> довольно хаотичной конкурентной игры, разворачивавшейся на поле советской филологии и литературы» (с. 407). Работа Л.Д. Бугаевой посвящена другого порядка «конкурентной игре» — той, которая происходила в начале 1950-х на поле кинематографа. Исследовательница подробно анализирует полемику между С. Герасимовым и А. Довженко о методе и об отношении к наследию С. Эйзенштейна («монтажу аттракционов»). «Музыкальную паузу» между смертью Сталина и ХХ съездом представляет М.Г. Раку, в ее статье речь идет, главным образом, о Шостаковиче: об «отложенных премьерах» его сочинений, отношениях с учениками и о Десятой симфонии, ставшей, по мнению исследовательницы, единственным «по-настоящему значительным художественным событием» в музыке этого периода. Наконец, Е.Ю. Андреева («Наши импрессионизмы») характеризует расстановку сил в советском изобрази тельном искусстве конца 1940-х — начала 1950-х: «борьбу с формализмом» и заведомый эклектизм («социмпрессионизм») в творчестве образцовых соцреалистов «сталинского салона» А. Герасимова и Вл. Серова, «оттепельную» реформу соцреализма, появление «сурового стиля» и «эстетического инакомыслия». Важное место в этой истории занимает лекция Н.Н. Пунина «Импрессионизм и проблема картины», которая была прочитана в зале Ленин- градского Союза советских художников 13 апреля 1946 г.; с нее, как показывает Андреева, начался пунинский «путь на голгофу» (с. 470).
Третий раздел составляют публикации газетных репортажей, дневниковых записей, писем и других эго-документов, из которых становится очевидной разница между внешней, официальной и внутренней — сложной и конфликтной — рефлексией свидетелей и участников писательского съезда.
В заключение отметим высокий уровень работ, вошедших в сборник, представивший короткий период советского межвременья как своего рода культурную микроисторию — стилистическую, идеологическую и аппаратную. Добавим, что именно последний аспект — особенности ритуальной риторики и аппаратной интриги, «бой резиновыми подушками», по остроумному определению М. Липовецкого, вся эта «теневая микроистория» советского литературного (и шире — культурного) процесса, которая зачастую игнорируется в такого рода исследованиях и которая исключительно важна для понимания причин, следствий и сюжетных пружин «большой игры», замечательным образом описана в лучших статьях этого сборника.
И. Булкина
Maksim Gor’kij: ideologie
russe e realtà italiana: Atti del
convegno per il 150° anniversario
della nascita di Maksim
Gor’kij / Максим Горький:
Российские идеологические
контексты и итальянские
реалии: сборник материалов
конференции к 150-летию
со дня рождения Максима
Горького / a cura di/ под ред.
Michaela Böhmig, Lucia Tonini, Donatella
Di Leo, Olga Trukhanova.
Roma: UniversItalia, 2020. — (Testi & Traduzioni.
Collana di studi slavi e comparati).

Содержание: Максим Горький и российские идеологические контексты: Полонский В. Горький и культура модернизма; Московская Д. Между философией и жизнью: Горький как институция; Спиридонова Л. Mаксим Горький и философия пессимизма; Шуган О. Идея «Заката Европы» О. Шпенглера в свете историософских и культурологических взглядов М. Горького; Примочкина Н. Фантастические сюжеты и образы драматургии М. Горького; Быстрова О. Проблемы религии в текстах Максима Горького: отказ от православной традиции как лейтмотив творчества; Матевосян Е. «Разум-Сатана» как полемическая формула в философском споре Максима Горького с Львом Толстым; Жуховицкая Л. «Чужое как свое»: Горький в российской истории ивритской культуры; Böhmig Michaela. La ‘verità artistica’ nella pubblicistica di Maksim Gor’kij sullo sfondo del dibattito ottocentesco su istina vs pravda [«Художеcтвенная правда» в публицистике Максима Горького на фоне дискуссий XIX века об «истине» и «правде»]; Steila Daniela. Maksim Gor’kij e la filosofia del collettivismo [Максим Горький и философия коллективизма]; Venturi Antonello. Gor’kij, la «Novaja zˇizn’» e l’ultima battaglia degli ex-emigrati russi in Italia [Горький, «Новая жизнь» и последнее сражение бывших русских эмигрантов в Италии]; Максим Горький и итальянские реалии: Ариас-Вихиль М. Горький в Сорренто; Гаврилин К. «Соррентинская правда»: диалог современников; Демкина С. Соррентинская страница музейной биографии Максима Горького: по материалам Музея А.М. Горького ИМЛИ РАН; Tonini Lucia. Maksim Gor’kij e Ugo Ojetti: indicazioni per un viaggio nell’arte russa [Максим Горький и Уго Ойетти: советы путешественнику в мир русского искусства]; Caratozzolo Marco. Lenin a Capri nei ricordi di Gor’kij: le differenti version [Ленин на Капри в воспоминаниях Горького: разные версии]; Cioni Paola. La rottura dell’amicizia tra M. Gor’kij e A. Bogdanov nelle memorie di A.A. Lunacˇarskaja [Разрыв дружбы между М. Горьким и А. Богдановым в воспоминаниях А.А. Луначарской]; Garetto Elda. Diffusione e ricezione del teatro di M. Gor’kij a Milano tra edito ria e palcoscenico (1903— 1947) [Распространение и восприятие драматургии M. Горького в печати и театрах Милана (1903—1947)]; Талалай М. Капри после Горького: люди, наследие, мифы; Приложение: Maksim Gor’kij nella stampa periodica italiana: «Avanti!» (1896—1932) e «Il Marzocco» (1896—1932) [Максим Горький в итальянской периодической печати: «Avanti!» (1896—1930) и «Il Marzocco» (1896—1932)] / Подготовили Донателла Ди Лео, Эмилио Мари, Ольга Труханова и Лючия Тонини.
Крылов А.Е.
Проверено временем:
О текстологии и поэтике
Галича.
М.: Либрика, 2020. — 629 с. — 500 экз.
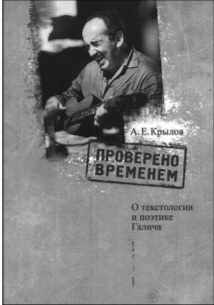
Андрей Евгеньевич Крылов — один из ведущих исследователей авторской песни, в свое время подготовивший двухтомное — до сих пор самое авторитетное — собрание сочинений Высоцкого (1990 и многочисленные переиздания), позже как составитель и главный редактор выпускавший альманахи-ежегодники «Мир Высоцкого» (1997—2002) и «Голос надежды. Новое о Булате Окуджаве» (2004—2013). Постоянным и пристальным вниманием ученого пользуется и наследие третьего барда-классика— Александра Галича. Работы, написанные в течение минувшей четверти века, преимущественно в конце 1990-х — начале 2000-х (некоторые из них выходили в виде небольших книг, некоторые публиковались в разных изданиях, в том числе в «Вопросах литературы» и в трех выпусках Крыловым же составленного сборника «Галич. Исследования и материалы», 2001—2009), вошли в изданный теперь солидный том, в основе которого, как видно из подзаголовка, — исследования текстологического характера, но не только они. Именно Крыловым разработана методика текстологической работы с бардовскими фонограммами. В отличие от «обычной» литературы, при изучении которой первостепенны автографы писателя, авторская песня живет, что называется, в звуке: изменения в тексте, движение к каноническому варианту его происходит не от автографа к автографу, а от исполнения к исполнению. Разумеется, учитываются и автографы, но они в разных случаях имеют и разный статус, фиксируя часто лишь раннюю стадию работы над текстом. В случае же с Галичем материал задает текстологу и особые вопросы: например, можно ли считать вышедшую в издательстве «Посев» книгу «Поколение обреченных» авторизованной, как полагает составитель галичевского тома в «Новой библиотеке поэта» В. Бетаки? Крылов убедительно показывает: нет, нельзя. Его аргументы основаны на самих текстах, сравнительном анализе печатных и звучащих вариантов.
В книге — несколько разделов. Первый из них содержит статьи о творческой истории отдельных произведений поэта и песенного цикла «Коломийцев в полный рост». Исследователь выявляет ход творческой работы поэта — например, сравнивает две редакции песни об Ахматовой «Снова август» или выявляет литературные и кинематографические (Галич был невероятно начитанным человеком, а как кинодраматург следил за тем, что делается его коллегами в этой области) источники. Так, выясняется, что песня «Вальс, посвященный уставу караульной службы» абсурдной и горько-иронической ситуацией допроса бойца смершевцем («Так чего же ты не помер, как надо, / Как положено тебе по ранжиру?») обязана поэме Александра Ревича «Начало» (здесь, может быть, стоило бы вспомнить и фольклорную песню «Первая болванка попала танку в лоб…», где есть похожий мотив: «Что же ты, собака, вместе с танком не сгорел?»). А образ «знатного человека» Клима Коломийцева имеет обширный генезис со своей семантикой, восстановленный Крыловым через имя героя — от носивших его персонажей Некрасова и Чехова до «красного маршала» Клима Ворошилова и Клима Петровича Куропаткина из давно забытого фильма С. Самсонова «За витриной универмага».
В статьях второго блока рассматриваются галичевские «посвящения». Будучи поэтом категоричным в своем неприятии всякой фальши — и политической, и поэтической, и этической, — Галич предъявлял строгий счет коллегам-современникам, если улавливал в их творческой и человеческой позиции какую-то двусмысленность. Не удивительно, что адресатом такого «антипосвящения» становится литературовед-доносчик Я. Эльсберг (песня «Век нынешний и век минувший»), но на острие пера поэта попадают Солоухин, Евтушенко и даже… Солженицын, которого, казалось бы, с позиций галичевского максимализма упрекнуть не в чем. А дело в том, что в период начавшегося преследования Галича властями он искал встречи с Солженицыным, но тот от встречи уклонился. У Солженицына были на то свои резоны, свой максимализм (он и лагерь воспринимал не как трагедию, а как школу жизни), но Галичу этого эпизода оказалось достаточно, чтобы изобразить некоего пророка, который вещает правильные истины, но не замечает рядом слепца, не помогает ему перейти улицу, и тот оказывается под колесами машины (стихотворение «Притча»). Адресаты «антипосвящений» тщательно зашифрованы, ибо «художественное обобщение для Галича <…> гораздо важнее конкретики» (с. 196), и исследователю приходится виртуозно распутывать эти смысловые клубки, создавать настоящие литературоведческие детективы. К этим работам примыкает и статья о двух «антиокуджавских» песнях Галича («Бессмертный Кузьмин» и «Баллада о чистых руках»), содержащих завуалированные упреки коллеге-барду в конформизме. Следующий блок посвящен еще одной грани галичевской интертекстуальности — его своеобразному «соавторству». Галич порой исполнял чужие произведения, то и дело их цитировал — в собственных песнях, в эпиграфах к ним (эпиграф — излюбленный галичевский прием), в автокомментариях. Исследователь подметил, что поэт склонен «поправить» чужой текст. Так происходит и потому, что собственный вариант кажется ему лучшим (своеобразный максимализм ощущается и здесь), и потому, что измененная цитата больше отвечает его собственному творению, в связи с которым цитата ему понадобилась. Так он дописал текст двух шуточных песен, сочиненных Шпаликовым («У лошади была грудная жаба…» и «Мы поехали за город…»), придав им резкое, сатирическое звучание, для самого Галича более органичное. Что касается эпиграфов, то здесь опять исследователь превращается в «расследователя», выявляя скрытые от невооруженного глаза источники их. Например, читателя Галича ставит в тупик цитата из Мандельштама: «Лунный луч, как соль на топоре». Ведь у Мандельштама луч не «лунный», а «звездный». Галич ошибся? Нет. «Луч» был действительно «лунным» в раннем варианте стихотворения Мандельштама, и этот вариант не прошел в печать. Галичу же он был известен, судя по всему, из самиздата. Особняком стоит в книге комментаторский труд, на первый взгляд могущий показаться курьезным. Крылов выбрал из наследия поэта все цитаты, где речь идет о спиртном. И оказалось, что Галич создал целую «энциклопедию российского пития», и это вовсе не курьезно, а очень серьезно. Во-первых, сама эта тема — универсальный «общий знаменатель» нашей национальной жизни, никуда от этого не денешься. Во-вторых, всегда точный поэт очень точен и здесь. Это у Высоцкого бывает так, что «сидели, пили вразнобой мадеру, старку, зверобой» (это, впрочем, тоже очень по-российски); у Галича не бывает «вразнобой», а всегда «с чувством, с толком, с расстановкой». Вот, скажем, один из его героев собирается выпить пива: «Я пива спрошу, и услышу в ответ, / Что рижского нет, и московского нет, / Но есть жигулевское пиво — / И я про сияю счастливо!» Какие емкие строки: здесь и атмосфера нарастающего тотального дефицита, и «субординация» сортов (московское и рижское было более дорогим и считалось более качественным, чем жигулевское; тогдашние цены, кстати, Крыловым указаны), и радость потребителя, которому уже не до жиру, а хоть какого-нибудь бы пивка выпить… Без этих нюансов картина нашей жизни той поры неполна, и они тщательно воссоздаются комментатором.
Автор включил в книгу свои полемические отклики на связанные с именем Галича издания, в которых обнаруживается то некачественная текстологическая работа (А. Петраков), то плагиат (В. Батшев). Эти отклики показывают, как далеко еще галичеведение от того уровня, которого заслуживает этот замечательный мастер и который более чем выдерживает рецензируемая нами книга (автор ее, кстати, не стесняется сознаться в собственных ошибках, благо переиздание работ дает возможность эти ошибки исправить).
Книга содержит, наконец, обширное приложение, куда вошли в разные годы введенные Крыловым в научный оборот материалы — тексты интервью и устных рассказов Галича, а также его «персональное дело» 1968 г., где центральное место занимает стенограмма заседания секретариата правления московской писательской организации. Понятно, что это типичная для тех времен «проработка» литератора, осмелившегося плыть против идеологического течения.
Внимательный читатель заметит, что автор книги порой стилизует научное повествование под манеру героя. Он может, например, дать фрагменту статьи название «Вставная главка, написанная в 2019 году» (с. 240). Сразу вспоминается галичевское «Глава, написанная в подпитии» и проч. О поэтическом почерке Галича напоминают концовки некоторых статей типа «Такая вот история» или эпиграфы к статьям. Все это — знак того, что исследователь «пропитан» Галичем и что он (исследователь) в какой-то степени и сам, подобно своему герою, — художник, литератор, которому строгий академический стиль узок. Во всяком случае, научному изложению это не мешает и по-хорошему его оживляет.
Чего книге, на наш взгляд, недостает? Недостает вещей сугубо технических. Во-первых — редактуры. Когда работы разных лет объединяются в книгу, они требуют «косметического» обновления с учетом прошедших лет. Труд, переизданный сегодня, является фактом сегодняшней научной жизни — несмотря на то, что место и время первой публикации указываются. А иначе и нет смысла переиздавать. Нехорошо, например, когда поэт, несколько лет назад ушедший из жизни, назван «ныне здравствующим» (с. 454). Книга издана, как указано в выходных данных, «в авторской редакции», но этого оказалось недостаточно. Редактура — более тщательная ли авторская, издательская ли — позволила бы избежать и повторов и мелких логических неувязок, в книге иногда встречающихся, а также досадной путаницы в «Содержании», нечаянно попавшем в книгу в своем черновом, рабочем варианте.
Во-вторых, недостает алфавитного указателя произведений Галича. В объемистом томе, посвященном одному автору, такой указатель нужен не менее, чем указатель имен (в данную книгу включенный).
А. Кулагин
Ястребов А.В.
Силуэты прошлого: мои
воспоминания о жизни
в Симбирске-Ульяновске /
Сост., подгот. текста и коммент.
В.В. Ястребова; ред. Н.В. Бороденкова.
Ульяновск: Мастер-Студия, 2020. — 592 с. —
300 экз. — (В зеркале времени).
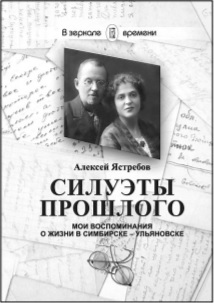
Алексей Васильевич Ястребов (1886— 1969) родился в Симбирске, окончил в 1907 г. Симбирскую духовную семинарию, где учился бесплатно как сын преподавателя епархиальных училищ, а в 1911 г. — Императорский Санкт-Петербургский историко-филологический институт (ныне СПбГУ). Он всю жизнь преподавал русский язык и литературу — сначала в Екатеринбургской мужской гимназии, потом в разных учебных заведениях Симбирска-Ульяновска — и оставил подробнейшие воспоминания о жизни в дореволюционном и постреволюционном Симбирске конца XIX — начала XX столетия. Автор признает, что временной диапазон его мемуаров не очень широк, но они «до некоторой степени дают возможность представить себе культурный уровень, запросы, быт и нравы, царившие в те далекие годы в среде некоторой части русской трудовой интеллигенции» (с. 7). Хотя речь идет об одном поволжском городе, но заметки о городской торговле, развлечениях, праздниках, порядках в учебных заведениях, о пароходных компаниях, осуществлявших грузовые и пассажирские перевозки по Волге, рисуют типичную картину жизни среднерусского города и его обитателей.
Мемуары написаны в 1966—1969 гг., то есть в самом конце жизни Алексея Ястребова, словно автор спешил исполнить долг перед потомками. Пущенная им в ход «машина воспоминаний» (выражение автора) оказалась ходкой, так что собранные и изданные теперь рукописи составили толстый том. Удивительно, как много деталей удержала память этого человека. Например, большая глава посвящена старинным улицам Симбирска. Автор перечисляет едва ли не все дома на центральных улицах города, по которым ходил в детстве, — сначала на одной стороне улицы, затем на другой (очевидно, так ему легче было вспоминать); описывает, кто был хозяином дома, кто в нем жил, чем занимался, какие учреждения, магазины или лавки там размещались. Это педантичное перечисление усыпит случайного читателя, но окажется бесценным для краеведов и урбанистов, которые могут мысленно прогуляться по городу и сопоставить то, что было, с тем, что осталось.
Оживляя свои детские и юношеские впечатления, автор не только пишет о жизни своей семьи и даже прислуги, но и неторопливо описывает быт провинциального города, в котором огромную роль играла Волга. Это сегодня речной порт Ульяновска практически мертв, а «при царе» пароходов по Волге ходило столько, что «пассажирам не надо было заглядывать в расписание: через каждый 1—1,5 часа обязательно приставал к пристани какой-нибудь пароход» (с. 63). Летний отдых на воде был популярен и недорог: «В это время в хорошую погоду весьма приятно посидеть на палубе парохода… полюбоваться волжскими пейзажами, покушать черной игры, ухи из стерлядей, жареной осетрины и прочих исконно волжских кушаний» (там же). Развлечения той поры — пасхальное омовение ног, в котором роль Иисуса Христа играл епархиальный иерей, цирковые представления с чемпионатами по борьбе, в том числе и с участием Ивана Поддубного, ярмарки и кафешантан — все в одной главке, отчасти уравнивающей значимость этих видов досуга. Рассказ о традициях празднования Рождества вновь проникнут гастрономической ностальгией: «Теперь даже и вообразить себе нельзя, чем были обставлены праздничные столы в квартирах людей даже среднего достатка: балыки, семга, икра разных сортов, копчушки и прочее» (с. 82). В главе о торговле в старом Симбирске внимание привлекает описание семейственных отношений между купцами и их приказчиками, совершенно в духе пьес Островского. А глава, посвященная симбирскому театру, ценна тем, что дает представление о репертуаре театра и об актерах, блиставших на его сцене.
Летом 1914 г. Алексей Ястребов оправился в отпуск за границу — двухмесячной зарплаты учителя на это тогда вполне хватало. Он посетил Германию, Францию и Швейцарию, где его поразила дешевизна жизни, «отличное питание в пансионе, стоившее буквально гроши. Пансионат находился на берегу Женевского озера среди живописной природы…» (с. 356). Глава о поездке в Европу — самая яркая и драматичная в книге при всей безыскусности повествования. Выстрел в Сараево не насторожил отдыхающих в Женеве русских: они отнеслись к этому событию беспечно. Но началась война, а вместе с ней — долгая и мучительная одиссея возвращения на родину. Путь через Германию был отрезан, пришлось плыть и ехать через шесть стран: Италию, Грецию, Сербию, Болгарию, Румынию, Турцию. Этот путь оказался полным опасностей: в Адриатическом море Ястребов был свидетелем настоящего морского сражения, а в Сербии поезд, на котором он ехал, сошел с рельсов в результате диверсии. Автор рассказывает, как в Марселе, откуда ему не удалось уехать, тамошний русский генконсул Ставраки нажился на беде российских граждан, прикарманив присланное им правительством пособие. Дело в том, что с началом войны банки перестали оплачивать аккредитивы, и богатые люди остались без гроша и в полном смысле голодали. «Вот тут-то я и убедился в том, что деньги и драгоценности, оказывается, не всегда имеют свою силу, иной раз на них не купишь и куска хлеба, а бриллианты… теперь не имеют никакой цены и превратились в безделушки» (с. 370). Ястребов ничего не пишет о периоде двух русских революций 1917 г. и о Гражданской войне. Неизвестно, где он был в это время. Редактор и составитель книги не приводят биографической справки о самом мемуаристе, и это серьезный (но не единственный) недостаток издания. Книга собрана из рукописей, хранящихся в Ульяновской областной научной библиотеке и государственных архивах области, но издатель допускает, что не все мемуары найдены и некоторые из них могут храниться в частных руках.
Во второй части книги Ястребов вспоминает о своей преподавательской деятельности в школах, военных училищах, на рабфаке и в пединституте. Это кропотливый самоотчет, который может быть интересен краеведам и историкам образования. Автор описывает учителей, с которыми работал, пишет о методиках и учебных планах, о жизни профессионального сообщества, об учительских кружках и конференциях. Более занимательны главки, посвященные рабфаку. Образованием это можно было назвать с натяжкой из-за слабой изначальной подготовки взрослых учеников и прочих затруднений: высокого отсева, низкой успеваемости, срыва занятий из-за отсутствия электричества, невозможности организовать помощь отстающим. Не способствовали качеству обучения и бригадно-лабораторный метод (когда один ученик отчитывается за всю бригаду), и идеологизация обучения: студентам разъясняли, например, что «литература и русский язык являются оружием классовой борьбы» (с. 453). Даже оценки в те годы выставлялись путем голосования: «…студенты вступались за своего товарища, если считали, что преподаватель занижал ему оценку, и дело решалось голосованием всех: и преподавателей, и студентов» (с. 422). Автор пишет о двух бузотерах, с которыми ему приходилось иметь дело на рабфаке. Один из них, по фамилии Аверченко, возмущался, почему передовой поэт Пушкин не был с декабристами, а отсиживался в деревне, и почему старые писатели не пошли против царя и не прогнали его. А рабфаковец Астахов противился грамматической терминологии: «Что это за причастие? Мы покончили с религиозным дурманом, а вы нам говорите о причастии. Не надо нам никаких причастий. Кому нужны эти поповские штучки?» (с. 459).
К сожалению, «Силуэты прошлого...» могут служить примером того, как не надо издавать мемуары. Начать с того, что в предисловии составителя и комментатора сборника Владислава Ястребова (по совпадению, однофамильца мемуариста) ничего не сказано об авторе воспоминаний. «Нет смысла представлять этого человека», — говорится в обращении «К читателю». Непонятно, почему потенциальный читатель должен будет обратить внимание на книгу и ее автора, как и почему сам составитель заинтересовался этими воспоминаниями.
В книге более 2000 сносок с комментариями, которые составляют добрую половину книги. Они на каждой странице, мелким шрифтом. Антирекорды — десять сносок в одном абзаце, четыре сноски в одном предложении из двух строк. Все их прочитать невозможно и не нужно, но каждая из них становится открытым гештальтом, сосущим энергию читателя, отвлекающим внимание от основного текста. По форме книга становится похожа на справочник. Мемуарист отступает в фон, а на первый план выдвигается комментатор. Есть полное ощущение, что Владислав Ястребов, библиограф по образованию и составитель множества справочников, использует рукопись мемуаров как повод для комментирования, как способ удовлетворить редакторское честолюбие. Кроме постраничного комментария в конце книги есть еще и объемный глоссарий. При этом непонятно, на кого рассчитан весь этот справочный материал. Если это издание для узкой аудитории специалистов, для историков и краеведов, то им не надо объяснять в сносках, что «Евгений Онегин» — это роман Пушкина, а Шекспир — английский драматург (это реальные комментарии). Но составитель предполагает, что книгу будут читать школьники и студенты, и поэтому превратил издание еще и в толковый словарь, объясняя значение вполне ходовых слов и выражений («знать назубок», «сойти на нет», «ни зги не видно», «оболтус», «тупоумный», «фуникулер», «Ватикан», «папа Римский» и т.д.). Для человека образованного такие сноски чуть ли не оскорбительны, ибо опускают его на уровень недоросля. Таким образом, у редактора издания нет понимания целевой аудитории, отчего проигрывает книга в целом. Но уважаемый Алексей Васильевич Ястребов, совершивший свой подвиг мемуариста, в этом, конечно, не виноват.
Сергей Гогин
